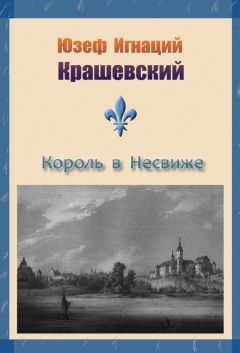Ознакомительная версия.
В торопливых прощаниях, раздирающих сердца, промелькнула молнией последняя минута, и вскоре послышался приказ к маршу, брошенный тем сухим солдатским голосом, который одинаково произносит приговор осуждения и освобождения. Солдаты двинулись, послышался звон оружия, плач и крики, загремели цепи, и вереница закованных ссыльных двинулась в далёкий чужой мир, не один – до открытой могилы в степи, посыпанной холодным снегом.
Офицер закурил сигару, солдаты разгоняли нажимавшую толпу своим: пошли вон! – отталкивая прикладами. Ксендз затянул:
– Под Твою защиту…
Но подбежавший казак, думая, что это пение какое-то запрещённое, ударил его кнутом по седой голове и песня окончилась тихой молитвой, только синяя полоса на лице священника свидетельствовала, что в минуту разлуки с родиной он думал о Боге.
Призывать Бога и жаловаться на царя – это непростительные преступления… Бог, согласно русским, есть только послушным исполнителем монаршей воли, иначе пошёл бы давно в солдаты.
За шеренгой солдат, опираясь на палку, потащилась одна женщина.
Была это мать Юлиана.
* * *
Не на том, однако, кончается это чёрная драма, над которой светит лучик материнской любви.
В то время, когда это происходило, на Праге, вдалеке, не смея приблизиться, опираясь о стену, стоял старый человек в обшарпанной одежде, с жёлтым и сморщенным лицом, на котором несчастье выпекло свой ужасный знак. Прохожие проходили мимо него с сожалением, читая на лице видимое безумие…
Пока заключённые стояли, его взгляд, казалось, осторожно кокого-то ищет, но как только он падал на Юлиана, прятался, устрашённый…
Даже знакомым, даже жене и сыну трудно было бы узнать в нём Преслера, в такого страшного нищего бродягу превратили его те дни искупления. Лицо было больное, вспаханное слёзами и искривлённое каким-то судорожным дёрганьем, принимающее то выражение плача, то дикого смеха. Он был вынужден опереться о стену по той причине, что не мог устоять на ногах, а его руки беспорядочно упали. Из стиснутых уст была видна сочащаяся пена, словно в последних конвульсиях.
Он стоял неподвижно, пока ссыльные не ушли, даже, когда послышался звон кандалов и узники начали это путешествие, из которого ни один не должен был вернуться, старый бросил безумный взор на кучку проклятых и, как бы наперекор плачу и стону, которые слышались в это время, начал дико смеяться. Этот смех был таким ужасающим, что кучка любопытных детей, которые из-за угла дома наблюдали эту сцену, убежала испуганная… Безумный оглянулся, рассмеялся ещё и, задрав голову вверх, подбоченился, пошёл важным, но шатким шагом в ближайшую таверну напротив.
По той причине, что день был рыночный и люди из околицы прибывали на Прагу и каждый из них в дождливое утро хотел чем-нибудь подкрепиться, когда Преслер вошёл в шинкарку, то нашёл её занятой. Его сильно возмутило то, что его сразу не обслужили.
– Эй! Слушай, – воскликнул он, – не видишь, кто пришёл? Давай мне сюда водку, и живо.
И он расселся за столом.
Еврейка не спешила его слушать, так как, видя порванную одежду, не уверена была в оплате.
– А! ты, иудейская дочь, иродово племя, – воскликнул повторно Преслер с всё возрастающим гневом, – водки, говорю, как можно быстрее, графин водки, а не то тебе голову расквашу…
Возмутились на эти сознательные крики и ругань, хотели вызвать полицию, чтобы убрали сумасшедшего, когда Преслер поискал в карманах и достал трёхрублёвую бумажку, вид которой успокоил шинкарку, а других остановил от вставания на защиту.
С невыразимой жадностью схватился старый за бутылку и начал из неё пить, словно глотал, жаждущий, воду. Страшно было смотреть на это самоубийство, глаза всех обратились на несчастного человека, который, допив до дна бутылку, грохнул рюмку о пол, а сам, бормоча какие-то проклятия, повалился на скамью.
Однако только мгновение продолжалось беспамятство, он тут же встал и с усмешкой направился к дверям; все расступились перед ним, он шёл с опущенной головой, с глазами, уставленными в землю, шепча сам себе:
– Ну, теперь хорошо! В любой день сделают меня полковником, а когда им выдам покойного отца, стану генералом. Чем мне это навредит? Кто скажет, что я предатель? Гм? Прикажу сразу его расстрелять! Никто иначе не заработает себе деньги и ранги. Я продал сына, пропил дочку, жену черти забрали, и…
Я себе пан и ни о чём не забочусь!
Последние слова он пропел охрипшим голосом, подбоченился, повернулся на одной ноге, начал, будто бы танцевать, но качался и падал.
– Что мне там! – восклицал он. – Всё глупость, а водка грунт! А что люди посочиняли ту якобы добродетель, эти разные деликатные баламутства, чтобы глупцов держать на верёвке… не стоят стакана воды! Тьфу! Фигня!
Через мгновение же он добавил:
– Где экипаж пана генерала Преслера? Где его люди? Прикажу вознице дать сто прутьев, когда его отыщу, или вышлю его в Сибирь! Знайте, трутни этакие, Преслера… Сибирь…
Повторив это слово, он осмотрелся и встряхнулся.
– Кто тут смеет болтать о Сибири? Кто мне тут упомянул Сибирь? В Сибире золото копят и в соболях ходят, там теплей, чем в этой глупой Италии… Неправда! Ложь, что болтали о Сибири от ненависти к Н. Пану и дружественным москалям…
Говоря это всё тише, голосом, прерываемым иканием, он остановился у берега Вислы и начал всматриваться в бегущую воду, его лицо нахмурилось, и, хотя губы кривились в улыбке, глаза плакали. Он сел, чувствуя себя уставшим, на деревянную мостовую.
– Что теперь делать? – пробормотал он себе. – Я мог бы жить, и порядочно жить. Ха! Но, быть может, не стоит, мне как-то даже не хочется! Жены нет, я мог бы ещё жеиться на какой-нибудь жирной и богатой москвичке, но что, если другая будет таким же дьяволом, как первая? Нет, это глупое дело… жилось, жилось, порвалась… и вся жизнь… Тьфу! Собаке на обувь!
Он снова посмотрел на воду.
– Горит во мне жажда, выпил бы Вислу, – сказал, – но эти злодеи сразу мне процесс выдвинут, патриоты, что им их реку сконфисковал в животе… нельзя… готовы повесить за это…
Он снова усмехнулся.
– Гм, дорогой Адам, – сказал он, припоминая себе своё имя, – если бы мы утопились?
В эти минуты много обезумевший от собственного феномена, Преслер почувствовал, что как бы раздвоился, Адам отделился от него и упрекал его. Преслер гневался и бранился. Оба противника, замкнутые в одной оболочке, начали жестокий бой. Поручик говорил за одного и другого, спорил с собой и ругался.
В конце концов в его голове помутилось, Адам осмелился ему бросить, что он предал Юлиана и, как Бог в Библии, спросил его:
– Что сделал ты с сыном твоим? Где сын твой?
Преслер пожал плечами, отвечая, что не знает, но повторяющийся вопрос разволновал его вконец, и схватил он сам себя, разрывая одежду, царапая и нанося раны на груди…
Так он метался в сильнейшей злости, решил бросить в Вислу навязчивого Адама, и упал в неё с ним вместе…
Вода в том месте была глубокая, его подхватил водоворот, поглотили волны; только дикий издевательский смех, последний пульс жизни, прозвучал далеко под берегом.
Warsawa 1863
Картинка из прошлого роман
Вечером жаркого июльского дня в Несвижском замке, в кабинете, к спальне его княжеской светлости прилегающем, окна которого были заслонены толстыми и тяжёлыми шторами, на удобном стуле, ногами опираясь на столик, сидел, вздыхая и отирая с лица пот, князь воевода виленский Радзивилл – Пане Коханку. Его усталое лицо выражало великую утомлённость и озабоченность; летний наряд, удобный, домашний, означал, что уже в этот день он не ожидал гостей. Рядом на маленьком столике, покрытом легкой скатертью, большой стакан калтешала, из которого он попивал, вздыхая, до половины уже был опустевшим. У ног князя, удобно растянувшись под столом, сопя и сквозь сон отгоняя мух судорожными движениями, почивал любимый сеттер Непта, на которого князь воевода иногда заботливо смотрел.
Перед князем, в некотором отдалении, стоял, в мундире польского вида, довольно приятный, рыцарской фигуры, не очень уже молодой, но здорово и румяно выглядящий мужчина. Красивым его назвать было нельзя, так как черты лица, довольно обычные, не сильно выраженные, ничем особенно не выделялись, но энергия, уверенность в себе, солдатское высокомерие на нём были чётко написаны. Это был шурин князя, генерал Моравский. Он поглядывал иногда на воеводу, прохаживался по кабинету, словно компания молчащего пана его утомляла, откашливался, напоминая ему о себе, останавливался и поворачивал напрасно к нему взывающий взгляд.
Князь с великой невозмутимостью попивал калтешал, отирал пот, покрывающий его лоб, а на товарища не смотрел. Гораздо чаще его уставшие глаза обращались на лежащего под столом сеттера, откормленное и тучное создание, которому жаркие каникулы, равно как и его пану, должны были надоесть. Вдруг князь воевода тихо, как бы сам с собой, начал бормотать; поднял тяжёлые глаза, поглядывая на военного, и сказал приглушённым голосом, наполовину хриплым:
Ознакомительная версия.