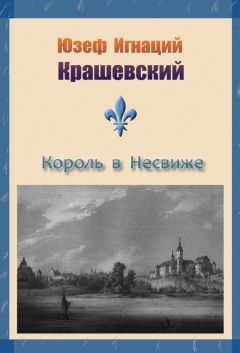Ознакомительная версия.
Филипп смешался, испугался как-то.
– Но… – вырвалось у него.
– Никаких но; если меня любишь, то придёшь. Слово.
Русин дал слово.
– Помни же! Потому что иначе между нами всё кончено. Приходи утром, хотя бы в восемь… знаешь мою комнатку?.. прямо, не спрашивая, ко мне. Кофе с бараниной будет на столе и рюмка вина найдётся.
Филиппек должен был троекратно повторить заверение.
В сущности минута для незаметного посещения была отлично выбрана. Войско, кони, кареты, сам князь и весь двор его заранее уже в Несвиж потянулись, где расположились в порядке, а князь всех муштровал.
Понятовский, одевшись в новый контуш, посмотрев в зеркальце, улыбнувшись себе, причесав волосы, натянул на голову шапочку и примкнулся незамеченный к той части замка, которую занимали фрауцимер.
Панна Моника ждала его у порога. Могло бросится ему в глаза и удивить то, что в передней, которая обычно бывала пустой, в этот раз он обнаружил около десятка сильных девушек, задыхающихся от смеха, сперва с криком изчезнувших при виде его, потом вернувшихся назад, вставших у порога, и когда Филипп входил к панне Моники, с шумом окружили дверь, которую он закрывал за собой.
Панна Моника была немного бледной и смущённой. Она просила его сидеть, налила ему кофе и вышла.
Филиппу почудилось, что, выходя, она закрыла за собой дверь на ключ. Но он этому посмеялся. Не могло этого быть!
В весёлом расположении он взялся за кофе. Всё было для него по плану и складывалось счастливо: петиция к королю была превосходно продумана Шерейкой, знал её всю на память; в отношении с Монисий нечего было желать. Дело было только в том, как и где, при чьём посредничестве он мог дотянуться до наияснейшего пана, чтобы ему вручить переписанный начисто аккуратно запрос, но за тем следил достойный его протектор и советник. Погруженный в эти мысли о своём счастье, Филипп не обратил внимания на то, что в передней за дверями господствовало чрезвычайное движение, смех, выкрики, какой-то стук, в самые двери даже кто-то всё больше ударял, как бы непреднамеренно. Панна Моника, которая собиралась удалиться только на мгновение, не возвращалась. Выпив кофе, съев все булки, которые он нашёл на столе, Русин начинал беспокоиться, нужно было ему возвращаться к себе. Выждав достаточно долго, встал он наконец, подошёл к двери, взялся за ручку, потянул… Что за чёрт? Закрыта были на ключ! Он не мог этого понять. Попробовал второй раз… закрыта!
Он принял это за шутку панны Моники, которая вскоре собиралась вернуться; не было смысла тревожиться… Сидел за столом и ждал. Между тем, прошло так добрых полчаса. Он уже сидел тут слишком долго. Подошёл он к дверям, попробовал ещё раз и начал в них стучать, крича: «Откройте!»
Ответили ему сначала очень интенсивные смешки, а вскоре потом послышался знакомый голос панны Моники:
– Сиди, сударь, спокойно. Прошу, чтобы меня впустили к нему, и всё объясню.
Филипп остолбенел.
Он не мог понять, что это могло значить. Какая-то шутка, фигля… но для чего! Ему сделалось холодно и горячо, он потёр чуприну. Затем медленно повернулся в замке ключ, двери немного подались, и втиснулась бочком, держа палец на устах, панна Моника. Филипп приветствовал смехом, она давала ему какие-то знаки.
– Прекрасного вы мне наварили пива! – воскликнула она. – Какие-то заговоры против князя замышляли, или что? Воевода приказал вас арестовать, где схватят, и закрытого держать под самой сильной стражей. Я несчастная! Нужно было, чтобы вас, сударь, тут у меня схватили, весь двор будет об этом осведомлён, стыд, срам…
Она закрыла свои глаза, словно плакала… Филипп стоял окаменелый.
– Что же вы наделали? Что? – начала панна.
Только теперь пришло Русину в голову, что кто-то должен был предать его петицию, которую собирался подать королю, и что это приняли за плохое. Но всё-таки никакого криминала не было, никакого заговора против воеводы!
– Панна Моника, благодетельница моя, – воскликнул он, стуча по груди, – это клевета, я ни в какие заговоры не вдавался, ни о каких не знаю. Меня зовут Понятовский и с этого титула королю Понятовскому я хотел подать просьбу, пожалуй, за это меня виновным делают. Но я же шляхтич, никто мне этого запретить не может. Заключать в тюрьму меня никто не имеет права!
Монисия слушала грозно нахмуренная.
– Ваша милость думаете спорить с князем? Ты всё-таки слуга его. Князь, должно быть, узнал, что ты хотел без его позволения подавать просьбу, и справедливо приказал запереть вас. Король бы мог подумать, что он сам поместил здесь бедного смотрителя, дабы его величеству глаза этим выколоть, что имеет такую бедную родню.
Панна Моника начала вздыхать и отчаиваться очень естественно. Филипп, обычно мягкий и боязливый, на этот раз, видя все свои надежды утраченными, приведённый в отчаяние, бунтовал. Он бросился к дверям, желая силой оттуда выбраться, но панна приступила к дверям.
– Что ваша милость сделаешь наилучшего? – крикнула она. – Погубишь себя. А тогда тебя в кандалы закуют и в темницу отправят; сиди спокойно. Как только князь вернётся, я пойду просить его, если смогу добиться. Стучать в двери ничуть не поможет, хотя бы ты их выломал. Десять гайдуков стоят на охране и я слышала, как им приказ давали, если бы ты хотел вырваться и бунтовал, чтобы заковать тебя и отправить в башню.
В голове Филиппа закружилось. Он наслушался о немалом количестве дел князя воеводы, который не уважал ничего, когда ему кто думал сопротивляться. Что же он, бедолага, один, а хотя бы и с Шерейкой вдвоём мог против силы воеводы.
Представление просьбы было делом значительным, но теперь больше, чем она, интересовала его личная свобода, месть воеводы, вся сломанная будущность.
Моника, читающая в его лице, легко поняла, что он встревожился, и что теперь с ним может делать что хочет. Она ударила его слегка по плечу.
– Будь спокоен, – сказала она тихо, – только спрячься тут скромно и не делай шума, а я постараюсь, чтобы ничего плохого не произошло. Подачу просьбы выбей себе из головы, пересидеть можешь тут в моём покое, пока король не уедет; потом, я надеюсь, воевода окажется любезней и…
Она не докончила.
– Оставь это мне, – добавила она через мгновение. – Десятник, который с гайдуками стоит на страже при вас, мой знакомый из Бьялы ещё, я постараюсь, чтобы вашей милости не отказывали ни в чём, однако, сиди тихо, спокойно, нужно сдаться!
Говоря это, она кивнула головой Филиппу, постучала в двери, быстро молча выскользнула и сразу за ней упали замки, а Русин, попавшийся в ловушку, оказался там один, с головой, в которой запутанных мыслей не мог ещё привести в порядок.
Всю надежду он складывал на Шерейку. Шерейко должен был заметить, что Филиппа не стало, и догадаться, что его заперли; он один мог его спасти. Он не сомневался, что добрую волю ему не ограничат.
Удручённый и грустный, он бросился на стул, облакатился обеими руками о стол и остался так, погружённый в чёрные мысли, не ведая уже ни какой час протекал, ни что делалось вокруг. За дверями голоса гайдуков, охраняющих его, звучали как-то странно не по-мужски…
* * *
Сразу за Малевом в поле начинался приём короля с той весьма деликатно продуманной фигли, которая хотела urbi et orbi[16] показать, что король сарматов, наследник Храбрых и Кривоустых, не мог на коня сесть… Станиславу Августу не годилось даже показать травмы и горя… это унижение. На тракте стояли верховые лошади для кортежа наисветлейшего пана и отдельно, под золотистым седлом, Палмир, для короля. Конюшие Божецкий и Каминский привели коня и были вынуждены остановить карету.
Король смеялся, но побледнел; он понял, что этот конь, на которого он сесть не мог, должен был свидетельствовать о его изнеженности и немощи.
Шидловский, Комажевский, Бишевский и почти весь двор вышли из карет, садясь на верховых лошадей, так, что король с кс. епископом и духовными практически один остался в карете.
Доктор Боэклер поспешил ему на выручку, беря на себя то, что он не мог позволить, ради состояния здоровья наисветлейшего пана, этой конной поездки. Таким образом, разыгралась маленькая сцена на глазах радзивилловских конюших – король вроде бы настаивал, Боэклер не допускал, остальной двор, естественно, был на стороне доктора, так, что наияснейший пан непреднамеренно должен был ехать дальше в карете. Честь спасена, но это первое впечатление радзивилловского приёма было горьким…
Полмили оставалось уже до города, который по-прежнему в дыму бьющих пушек показывался, когда снова королевский экипаж должен был остановиться.
На тракте стояли всадники: генерал Моравский и великий литовский писатель Платер в многочисленной ассистенции панов шляхты. Моравский приблизился к экипажу и сообщил наияснейшему пану, что эскадрон гусар национальной кавалерии, который он должен был конвоировать из Несвижа в Гродно, стоял в поле, ожидая приказа, должен ли был отбыть манёвры, и какие?
Ознакомительная версия.