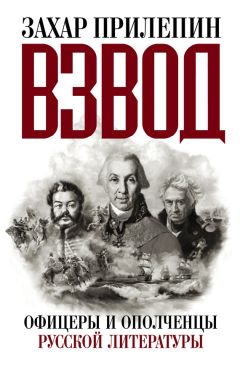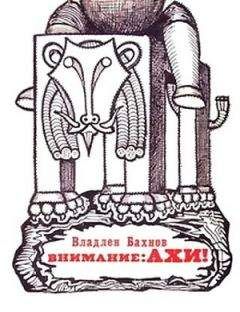Ознакомительная версия.
Сам государь император поручил провести расследование обстоятельств смерти или пленения Бестужева. Но расследование
ни к чему не привело.
Бестужев, говорили, был унесён в горы и там принял магометанство. Якобы его видели рядом с Шамилем, и теперь он его советник. Линейный казак докладывал: сидит ваш Бестужев на карабахском жеребце молодецки, песню поёт, наказал, чтоб его не искали.
В другой раз прошёл слух, что Бестужев в Лазистане, живёт с пятью жёнами, одна – невозможная красавица. Просит передать, что, как допишет повесть – вернётся в Петербург; жаль, жёны будут плакать, особенно эта… черноглазая.
Третий слух – что он в том же Лазистане, но промышляет грабежом со своей шайкой, собранной вперемешку из горцев и беглых казаков.
Ещё была весть, что живёт он отшельником, и навещает его юная черкешенка, а у черкешенки рыжий пёс со странным именем Декабрь.
Наконец, говорили, что он купался и утонул; хотя это могло быть эпилогом любой из предыдущих историй.
И все они похожи на правду: советник Шамиля, содержатель гарема, грабитель, отшельник.
Дальше – ещё пуще: рассказывали, что Шамиль – и есть Бестужев.
Вот это слава! Не то что в русской, даже в мировой литературе поэтов с такой мифологизированной судьбою – поискать.
Можно предположить, что Бестужева действительно унесли в горы: он ведь и в этот раз был в «татарской» одежде, и местными наречиями владел – его могли спутать со своими.
Или, если Бестужев оставался в сознании, он мог представить себя так, что его решили приберечь – для очень дорогого обмена, к примеру.
А дальше – не знаем.
Никаких следов Бестужева так и не отыскалось. Могила его неизвестна.
Хотя кто-то из ближних к нему бойцов уверял, что Бестужева разрубили на части: оттого и нельзя найти тело. И такое могло быть.
В последней своей повести, с говорящим названием «Он был убит», Бестужев писал о некоем своём товарище (на самом деле – о себе самом, конечно же): «…Слава прихотлива, как женщина, и у ней, как у фортуны, завязаны глаза: друг мой не попался ей под руку; он не выслужил у неё ни железного венца Чингисхана, ни петли Ваньки Каина».
Бестужев у славы выслужил своё имя.
Белинский, в своих разборах повестей Марлинского, был прав: отсутствие глубины, замена выражений чувства риторическими возгласами – всё это так.
Шумная известность литератора Марлинского окажется недолговечной; ровный интерес, впрочем, останется – и длится уже скоро как два столетия.
Он вошёл в историю как декабрист – но, мы понимаем, декабристом он оказался лишь в силу некоей бешеной горячности романтического характера, и ещё оттого, что чувствовал себя солдатом своего Отечества, и на тот момент именно так понимал свой солдатский долг.
Тщеславие имело место в его случае? Ещё бы! Но, руководствуясь одним только тщеславием, такую судьбу не вытянешь.
По типу, Бестужев – прямой предшественник Лермонтова и Гумилёва: дерзкий и удачливый воин, в каждом шаге которого вместе с тем чувствовалась приговорённость.
Что-то в его смерти было фаталистское, надломленное, юношеское: не желает простить меня государь – тогда я умру.
Бестужев – в отличие не только от Лермонтова, но даже от, скажем, Катенина – так ни разу и не нашёл слов, полностью адекватных своей судьбе, своему уму, своим приключениям.
Романтическая литература влияла на Бестужева больше, чем сама действительность.
Но если кистью архивариуса смести всю эту пыль, то в какой-то миг вдруг видишь: молодой, высокий, красивый человек примеривается: высока ль стена… – возьму с разбегу. В прыжок взбирается на неё, сшибает с ног противника и, не глядя на его тело бездыханное, бежит к своей неизбежной победе.
Читать его повести целиком – занятие на любителя; но всякий ценитель, обратившийся к Бестужеву, всё равно будет вознаграждён: если не объёмным ощущением, то отдельной фразой, выдающей и образ мышления, и характер этого удивительного человека.
Какой русский офицер не оценит этого достоинства, этой жестикуляции, явленной в прозе Бестужева: «Крепко устал я. От ночи до ночи не слезал с коня. Фуражировка была очень удачна; мимоходом спалили три аула; раза два был в жаркой схватке. Застрелил одного шапсуга из пистолета; он кинулся на меня с шашкою, но заряд иголок вместо пули прошил кольчугу и самого чуть не насквозь. Спасибо за эту выдумку кабардинскому абреку, Ад-ли-Гирею. “Надо бить зверя, не портя шкурки”, – говорил он; чертовская расчётливость!»
Вот ещё, навскидку, из бестужевских, взятых то здесь, то там афоризмов.
«Мужчине ли трепетать перед плаксивым ребёнком – совестью». (Хотя, одновременно с этим, совсем другое: «Распутник скормил душу и силы своей обезьяне».)
Ироническое: «Для меня довольно аршина лент и пары золотых серёг, чтоб влюбиться по уши».
Исповедальное: «У меня одно забытьё – наслаждение, одно сомнение – надежда».
Философское: «Любовь есть дар, а не долг, и тот, кто испытывает её, её не стоит».
Обращение к любимой женщине: «Я и теперь, одетый в мятежное тело… готов купить твою непреклонность, как иные готовы купить твоё падение». До чего ж хорошо!
Или это ещё, ну, отлично же: «Воля у человека не часовой, а вестовой – вечно на побегушках для его прихотей».
«Воображение скачет на почтовых, а размышление тянется на долгих».
«Время существует только для того, кто существует».
«Да и надо, правду сказать, иметь медвежьи рёбра, чтобы идти с голыми кулаками на судьбу».
«У каждого века, у каждого народа была своя совесть, и голос вечной неизменной истины умолкал перед самозванкою. Так было, так есть. Что вчерась почитал иной грехом смертным, тому завтра молится; что считают правым и славным на этом берегу – за речкой доводит до виселицы».
Или, взгляните ещё – такой резко обрывающийся фрагмент мог появиться у Юнгера, а ещё вероятнее, у Лимонова: «К рассвету мы были уже с отрядом за пятнадцать вёрст от лагеря. Взяли с боя пропасть сена и просушились от проливного дождя, заключившего ночную бурю, у пожара сожжённых нами аулов. Жаль: у меня убили лихого унтер-офицера».
Этот слом мелодии – так делать научились только сто лет спустя.
А вот ещё один кусок, не хуже: «Замечу мимоходом, что шапсуги сегодня в первый раз попытались передавить нас огромными каменьями, скатывая их с крутин, – и напрасно; что я оцарапан стрелою в правый бок; что я был восхищён видом на обе стороны, взобравшись на хребет Маркотча».
Или, из писем к братьям: «Завладев высотами, мы кинулись в город, ворвались туда через засеки, прошли его насквозь, преследуя бегущих… Но вся добыча, которую я себе позволил, состояла из винограда и в турецком молитвеннике: хозяин заплатил за это жизнью».
Лермонтов подсушил изобилующую прилагательными прозу Бестужева, избавил читателя от слишком витиеватых диалогов, подогнал всё суровой ниткой к жизни, а не к романтическому образцу, – и явился нам русский гений.
Но первым рассказал про парус одинокий, вечно ищущий бури, – он, Бестужев.
Человек без могилы, заслуживший не только смерть, но, может быть, и покой, Бестужев так и затаился с вечной виноградной кистью в руке, в строю, во второй шеренге, и отщипывает себе по ягодке: какой, всё же, невозможный позёр.
Лучшие вещи у него – самые короткие и простые, вроде «Вечера на бивуаке»: там всё без затей, и посему – как надо; из них родились «Выстрел» Пушкина и «Штосс» Лермонтова.
Упомянутое нами его сочинение под названием «Он был убит» – не столько даже повесть, сколько трактат о расставании с жизнью; прощальное письмо.
«Я русский. Я не барышня. Да и не раз изведал, что и черкес не чёрт. У него ружьё, и у меня не флейта; под ним конь, да и подо мной не собака. Еду один». (Готовое стихотворение!)
Герой там теряется в ночи, не может найти крепости – и выезжает к морю, которое его конь видит вообще впервые. Море – символ смерти.
Бестужев и не скрывает этой ассоциации: «Бледный фосфорический свет моря мерцал мне, как привычное озарение моего могильного мира, и говор волн отдавался в ухе, как понятная беседа собратий-мертвецов».
«Сейчас приди за мной смерть, и я подам ей руку с приветом… – пишет он; и далее: – Разлука передо мной, и около, и за мною…»
Просит: «Если ж паду на чужбине, я бы хотел быть схороненным на берегу моря, у подножия гор, глазами на полдень, – я так любил горы, море и солнце!»
Надеюсь, ему ответили и угодили.
Но если что-то особенно и неизменно радовало Александра Бестужева при жизни, то лишь подобные виды: «Сидя у палатки, я рассеянно глядел на лагерь наш, облитый пламенем и тенями заката. Предметы обозначались и опять исчезали передо мной сквозь глубокий дым трубки… Пушки прикрытия гремели цепями, въезжая на батарею; ружья идущей за ними роты сверкали снопом пурпурных лучей. Там и сям кашевары несли по двое артельные котлы с водою, качаясь под тяжестью. Туда и сюда скакали, гарцуя, мирные черкесы или вестовые казаки. Огоньки зачинали дымиться, и около них густели, чернели кружки солдат. Всё будто ожило отдохновением, и, уложив до завтра дневные труды, весело заговорило поле ржанием коней, строевыми перекличками, нарядами в цепь, в караулы, в секреты, бубнами песельников, полковой музыкою перед зарёю, – и под этот-то шум падало за горы солнце…»
Ознакомительная версия.