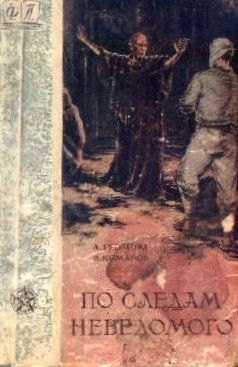Ознакомительная версия.
Ночь провели в палатках. Было темно и пасмурно, и я совсем не заметил, как подошёл ко мне Ханов и своим хриплым, скрипучим голосом что-то тревожное и странное рассказывал о прапорщике в австрийской шинели. Я мучительно вслушивался в его скрипучую речь и лишь с трудом улавливал надоедливое и пронзительно звонкое: пра... пра... И вдруг Ханов замолк, и я проснулся от лихорадочной дрожи, пробегавшей по телу. Едва светало. Хрипло кричало вороньё. Чёрной тяжёлой тучей они неслись туда, где вчера гремел бой, и деловито выкрикивали своё скучное «кра-кра»... Было ясно, что вчерашние позиции очищены и сегодня нас двинут дальше. Где-то далеко влево уже бухали пушки. Вдруг у самой палатки раздался выстрел. Я вскочил на ноги. Мне показалось, что стреляют опуда, где ночуют австрийцы. Но девять караульных, выпустив винтовки из рук, мирно храпели на соломе. Рядом с ними вповалку лежало человек сорок пленных. От холода все тесно и братски прижались плечом к плечу, и никто о побеге не помышлял. Кто же это выстрелил? Не вчерашний ли прапорщик забавляется?
* * *
Сегодня штаб дивизии передвинулся из Туробина дальше. В полдень канонада утихла, и мы в большой компании чужих офицеров осматривали окопы. Маскировка приводила пехотинцев в восторг. Вся передняя насыпь (эскарп) укрыта ветками и травой. Сверху сплошные крепкие крыши из массивных брёвен и досок, сбитых большими гвоздями и плотно утрамбованных глиной. Внутри, в глубине, просторные, четырехъярусные окопы, слитые узкими коридорами и рвами в длинные ряды извилистых галерей, которые тянутся вплоть до самого леса. Поближе к лесу окопы маскированы клевером и гречихой. Местами окопы разворочены, и видны торчащие из них доски, обломки сараев, палисадников и чугунной кладбищенской ограды. Всюду ломаные винтовки, стаканы, окровавленные фуражки на одиноких крестах, австрийские патронташи и гильзы. В некоторых окопах устроены лежанки для перевязок, и сверху даже прибиты куски картона с именами врачей. Большие ржавые пятна и клочья ваты и марли говорят, что работа была большая.
Мы идём по зигзагам окопов, и кто-то задумчиво произносит:
— Пишут, пишут умные книги, а чуть что — полезай в яму и жди в ней погребения, как дохлая лошадь.
— Д-да, хитрая ппука, — отзывается Кузнецов. — Выходит шайка разбойников, она так и говорит: грабить идём. А идут на грабёж солдаты — тут и умные книги, и отечество, и родина, и проблемы... Видно, под умные слова легче потрошить людей.
— Ну, пошёл хлебом-кашей кормить, — лениво отмахивается равнодушный Климович. — Об этом и говорить не надо. Мы же в парке: едим, пьём и никого не хороним.
— Эге! — продолжает иронизировать Кузнецов. — Наша самая поганая служба и есть. Мы — как трактирщики: сами не пьют, а других спаивают. Наш брат, парковый, круглые сутки пудами смертью торгует. Самый вредный народ на войне. Не подвезёт снарядов — и крышка. И воевать больше нельзя.
— Ну, так что ж, что возим? — огрызается Климович. — Мы, значит, только ломовики, деревянные батарейцы. Извозчики, а не офицеры. По-вашему, и кашевары воюют, и доктора, и обозные, и сестры?
— Не-не, вы косынкой не прикрывайтесь. Небось сами разницу знаете между ездовым и сестрой? Сапоги и каша — одно, а гранаты и шрапнели — другое. Спросите-ка интенданта, он вам скажет, в чем приятности больше: в сапогах или гранатах?
— Все это пустяки, — говорит веско пехотный офицер. — Попал в парк — и сиди, да Господа Бога за житьё благодарствуй. А настоящая-то война только тут, в этих ямах, где вшей пасёшь и казённый хлебушко чавкаешь... Штык победу решает...
— А артиллерия, по-вашему, ничего не стоит?
Затем завязалась горячая батальонная полемика, полная характерных чёрточек и батальной бутафории, без которой не обходится ни один разговор между артиллеристами и пехотой. Посыпались жалобы на кавалерию, которая никуда у нас не годится и разведочной службы нести не умеет.
— А казаки? — заметил кто-то.
— Нашёл чем хвастаться! Казаки! Казак — отличный наездник, хорош в атаке, в бою, а в разведку пошлёшь его, он по халупам девок щупает.
— Австрийцам легко разведку вести, — заметил с раздражением защитник казаков, — им все евреи помогают.
— Чепуха это все, — вяло возражает Климович. — Напускают на евреев, привыкли все беды на них валить.
Всю ночь шёл дождь. Палатки намокли, дороги в лужах. Грязно, холодно, хмуро. Но по всей деревне какое-то странное оживление. Допытываюсь у крестьян, в чем дело. Все в один голос твердят:
— Кажут, хранцуз пруса разбил.
— Кто сказал?
— Туробинский слесарь.
На лицах евреев, пугливо метавшихся по местечку, я читал какую-то жалкую растерянность. Я долго бродил по грязным полуобгорелым кварталам, наблюдая, как согбенные старые евреи покорно уступают дорогу каждому солдату, как заискивающе выслушивают каждый вопрос и вздрагивают от каждого сурового слова. И под конец мне стали чудиться какие-то погромные признаки. Мне казалось, что казаки слишком нагло указывают пальцем на еврейские лавки. Мне вспомнилась ненависть, с которой кругом говорили о евреях. И вдруг я понял страдальческое выражение еврейских лиц. Здесь, на войне, ненавидят только евреев.
Начальства боятся, неприятеля убивают, поляков ругают, а евреев преследуют с беспощадной ненавистью. Любое еврейское местечко, в котором расположились солдаты, — это воистину город проклятых. Кто видал эти худые фигуры, эти приниженные лица, полные ужаса глаза, тот знает подлинный ад со всеми его муками.
В тесной конурке нашей стоял дым коромыслом. Играли в карты, бренчали на гитаре, спорили. Мне было все равно. Скинув наскоро платье, я повалился на кровать. Убирая грязные сапоги, Коновалов успел мне сообщить:
— Ваше благородие, увечером завтра, в шестом часу, выступление.
13
Вещи были уложены, чай допит. Торопливо отдавались последние приказания. Подпруги затянул? Термос в кобуры положил? В эту минуту с сумкой через плечо и в шинели, высоко перетянутой ремешком, ввалился Ханов и мрачно доложил командиру:
— Ваше благородие, жиды из местечка до вас крайность имеют, видеть желают.
— Гони их в шею! — раскричался командир. — Скажи, что выступаем.
— Я им говорил, а они своё ладят: очень дело большое. И рабин с ними.
— Ну, зови их, пускай войдут.
В комнату вошли три древних еврея. Один сухой, столетний, трясущийся. Все трое больше похожи на привидения, чем на людей. Белые, в длинных балахонах, они повалились в ноги офицерам, и самый древний, с длинной дожелта седой бородой, торопливо зашамкал, что в Туробин вошли казаки и грабят еврейские лавки. Жители умоляют вмешаться и прекратить погром.
Лица у офицеров вытянулись, окаменели. Жестоким голосом командир повторил два раза:
— Мы ничего сделать не можем. Вы видите — мы уходим.
— Пане, я вас прошу, вы только выйдить до них, — твердил умоляющим голосом старик.
— У казаков своё начальство. Просите его.
Но старцы не уходили. Перебивая друг друга, волнуясь и через силу, но с твёрдой верой в правоту своих слов, они бросали в лицо нам тяжёлые упрёки, горько кричали о жестоких солдатах, о жертвах, о невинных младенцах.
Было невыносимо тяжело смотреть, как эти старцы валялись в ногах и худыми руками удерживали уходящих офицеров.
— Як не вы, то хто же... хто же нас буде ратовать? Наши диты тэж на войни бидують. А нас грабують... ваши жолнежи[2] нас грабують...
Офицеры молчат. Три старых еврея, кряхтя, поднимаются с пола и молча уходят.
Как мучительно тихо в комнате! Я вижу в окно трёх стариков в развеваемых ветром капотах. Напружив сгорбленные костлявые спины, они плетутся в гору, к Туробину.
В комнате снова суета. Входят, уходят, распоряжаются. Громко разговаривают о фураже, о подковах.
— А не послать ли туда дюжину ездовых с нагайками? — бросает задумчиво Кузнецов.
— Все равно, — отвечает уныло командир, — этих прогоним, через час другие начнут.
Я смотрю на запад, где грохочут орудия.
— На коней! — несётся команда адъютанта.
Сентябрь
Вторые сутки стоим в помещичьем доме. Мимо нас проходят транспорты и обозы, а мы все стоим. Место унылое, сырое. Деревня бедная, разорённая долгими стоянками австрийцев и наших. Жители забиты, напуганы. Днём рыщут в поле, подбирают гнилую солому из окопов.
С вечера деревня погружается в жуткую тьму. «Та-та-та, та-та-та» — доносится стрекотание пулемёта. Мокрые луга тяжело дышат туманом. Только над обозной кухней выделяются керосиновые факелы и, то укорачиваясь, то удлиняясь, разбрасывают тревожные искры. Проходит час, два — и тухнут последние признаки жизни.
— Обесчувствели, — говорит Коновалов.
Через весь наш лагерь иду в гости к хозяевам. Иззябшие солдаты спят под возами и в намокших палатках. Лошади, чтобы согреться, прижимаются тесно одна к другой и стоят, понурив большие умные головы, тоже погруженные в печальные думы. Часовые, изнемогая в борьбе со сном, тупо всматриваются в гнилую тьму и, взбадривая спящую мысль, решительно звякают винтовкой. Только из помещичьего дома сквозь закрытую ставню тянется мягкая серебряная полоска, и смутно доносятся медленные недоговорённые слова.
Ознакомительная версия.
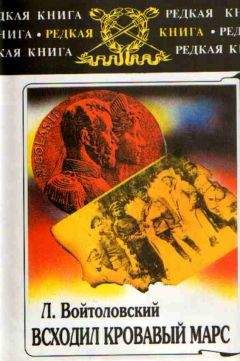

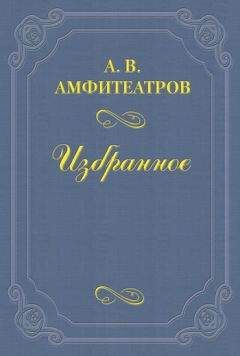
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)