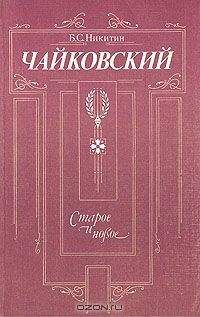Произведение должно было стать дипломной работой, и девятнадцатилетний композитор работал над ним с особой страстью и самоотдачей. Написав три части, он показал их своим московским друзьям, которые с огромным интересом изучали еще неоконченную партитуру. Больше всех восторгался Шебалин. Позже, когда партитура была уже закончена, Митя показывал ее и другим музыкантам, чаще всего проигрывая ее в таких случаях на рояле. Одним из первых, кто получил возможность познакомиться с симфонией в законченном виде, был Юрий Шапорин; старший товарищ обратил внимание на большую зрелость быстрых частей. Подобного же мнения придерживался Максимилиан Штейнберг. Дирижер Ленинградской филармонии Николай Малько тоже ставил две первые части гораздо выше остальных. А Дариюс Мийо, в марте 1926 года посетивший Советский Союз, писал в своих воспоминаниях, что ему особенно запомнилась встреча в Ленинграде с «молодым музыкантом в больших очках», который показывал ему свою симфонию.
Это сочинение чрезвычайно ярко показало феноменальные способности юного автора. До наших дней симфония подкупает изобретательностью и необыкновенным владением композиторской техникой. Шостакович не только создал крупную симфоническую форму со свободой, свойственной опытному мастеру, но прежде всего заявил о собственном стиле, очень индивидуальном и весьма характерном. Естественно, в симфонии чувствуются различные влияния: русских классиков — в первой и четвертой частях, Скрябина — в крайних разделах медленной части, Прокофьева — в главной теме Скерцо, но все они не заслоняют поразительной однородности стиля и оригинальной инструментовки.
Четко обозначившаяся уже тогда индивидуальность Шостаковича проявляется прежде всего в сфере мелодики, деформированной тонально-модальной гармонии, а также в широком эмоциональном диапазоне — от специфического гротескового юмора Скерцо до полноводной лирики медленной части. Эта индивидуальность была заметна уже в Фантастических танцах и Скерцо Es-dur для оркестра, однако в симфонии она выразилась несравненно полнее.
В мае симфония была готова, а 1 июля Шостакович закончил начисто переписывать последнюю, девяносто девятую страницу партитуры. Вскоре он показал ее своим ленинградским товарищам, которые, как и его московские Друзья, восторженно приняли новое произведение. Однако напряженная работа над симфонией подорвала здоровье Дмитрия. В доме не было денег на лечение, и поэтому мать заставила Шостаковича выехать на отдых в провинцию. Какое-то время он жил в Славянске, занимаясь окончательной отделкой своей новой партитуры.
В декабре 1925 года Шостакович представил партитуру и клавир экзаменационной комиссии. Штейнберг оценил симфонию как «проявление высочайшего таланта». Весной следующего года Шостакович вместе с Павлом Фельдтом сыграл ее на фортепиано для Глазунова, который был известен своей требовательностью к соблюдению правил голосоведения.
«Когда я показал Александру Константиновичу начало моей Первой симфонии (в четырехручном исполнении), он был недоволен неблагозвучными, с его точки зрения, гармониями во вступлении, после начальных фраз засурдиненной трубы. Он настоял на том, чтобы я исправил это место, и предложил свой вариант гармонии. <…> Я, конечно, не смел спорить; мое уважение и любовь к Глазунову были слишком велики, а авторитет его был непререкаем. Но потом, уже перед исполнением симфонии в оркестре и перед печатанием партитуры, я все-таки восстановил свои гармонии, вызвав неудовольствие Александра Константиновича»[43].
Коллегия профессоров Ленинградской консерватории допустила симфонию к публичному исполнению. Произведением заинтересовался Николай Малько, который выразил готовность им продирижировать и даже написал Мясковскому письмо с рекомендацией исполнить это сочинение в столице.
Премьера первоначально планировалась на 10 мая 1926 года, но затем концерт перенесли на 12-е, поскольку 8 мая в Мариинском театре давали «Саломею» и там были заняты медные, необходимые для симфонии. Назавтра после премьеры Софья Васильевна обрисовала подготовку к концерту, репетиции и сам концерт в письме к Клавдии Лукашевич:
«Попробую описать наши переживания в связи с исполнением Митиной симфонии. Всю зиму мы жили в ожидании этого счастливого дня, и по мере его приближения наши мысли, разговоры и желания все больше концентрировались вокруг этого. Афиши появились на столбах за две недели до концерта. Митя считал дни и часы. Он находился в состоянии огромного возбуждения, размышляя над тем, правильно ли расписаны голоса, хорошо ли оркестровано произведение и вообще как все это будет звучать. Наконец наступило 10 мая, день первой оркестровой репетиции.
На службе я целый день почти ничего не слышала и не соображала, постоянно ждала телефонного звонка. Наконец около трех часов я услышала счастливый Митин голосок: „Все звучит, все в порядке!“ Оркестранты и те, кто присутствовал на репетиции, устроили Мите первую овацию. Я смогла прийти на вторую репетицию, 11 мая, и наслушалась похвал его таланту от всяческих музыкальных авторитетов. Глазунов сказал, что его особенно поразило Митино мастерство инструментовки — искусство, достигаемое только с годами опыта, а здесь изумляющее уже в первом произведении. И еще одна награда — аплодисменты и счастливая мордашка Митюши.
Наконец наступил день концерта — 12 мая. Волнение охватило нас с самого раннего утра. Митя не мог спать, не мог есть и пить. Страшно было на него смотреть. В половине девятого вечера мы оделись и отправились в филармонию. В девять зал был полон. Невозможно описать, что я почувствовала, когда Малько вышел на сцену и поднял дирижерскую палочку… Единственное могу сказать: иногда трудно пережить даже большое счастье…
Все прошло просто блестяще — великолепный оркестр и превосходное исполнение! Но самый большой успех выпал на долю Мити. Публика слушала с энтузиазмом, а Скерцо потребовали повторить. Потом Митю без конца вызывали на сцену. Когда наш милый молодой композитор, выглядевший совсем как мальчик, показался на сцене, бурные восторги публики перешли в неистовые аплодисменты. Он выходил на поклоны то один, то с Малько.
После концерта мы организовали дома праздник, на котором присутствовали почти исключительно представители музыкального мира — Малько, Николаев, Штейнберг; Глазунов не пришел (но был на концерте), так как страдает болезнью лимфатических желез и подъем на пятый этаж был бы для него слишком мучительным. Когда Митя приехал домой вместе с Малько, Николаев и Штейнберг приветствовали его, играя на рояле Фанфары Глазунова. Прием был очень скромный, но еда вкусная и в достаточном количестве, и гости разошлись в пятом часу утра.
Митя получил от Николаева три великолепно переплетенные книги о Скрябине с трогательным посвящением. Художник Костенко подарил ему гравюру, от приятелей он получил в подарок мороженицу, два персиковых торта, бутылку шампанского, две бутылки вина, апельсины и яблоки. Тетя Маруся прислала ему десять рублей. Михаил Михайлович Кучеров написал стихотворный тост, который был прочтен во время ужина»[44].
На концерте кроме симфонии Шостаковича состоялись Две другие премьеры: инструментального сочинения «Поступь Востока» Иосифа Шиллингера и кантаты «Двенадцать» Юлии Вейсберг. Достаточно холодный прием этих произведений еще более подчеркнул успех симфонии.
Сохранился дневник Николая Малько, в котором, между прочим, можно прочитать о репетициях: пьеса Шиллингера — «курьез — и только», в кантате Вейсберг «масса ошибок и неточностей… ироническое отношение оркестра и, конечно, отсутствие дисциплины <…> Симфония Шостаковича прелестно выходит. Сомнительна по музыке третья часть. <…> В оркестре поругивали, но ему [Шостаковичу] хлопали. <…> Третья и четвертая хуже. Жаль, что мало времени, можно было бы отделать эту симфонию»[45].
На одной из репетиций присутствовал Штейнберг, который тоже сделал в своем дневнике записи, связанные с исполнением: «Симфония Мити звучит хорошо. Сам Митя в неописуемом восторге от своей музыки и звучности, и я с трудом удерживал его от бурных проявлений жестами своих чувств»[46]. А ночью после концерта Штейнберг занес в дневник следующее: «Достопамятный концерт. Бурный успех Митиной симфонии, Scherzo бисировали… После концерта ужинали у Шостаковичей в обществе главным образом молодежи до 2-х часов. Возвращались с Малько и его женой, пешком до Садовой. Белая ночь, холодно, 20»[47]. Николай Малько тоже записал этой ночью: «У меня ощущение, что я открыл новую страницу в истории симфонической музыки, нового большого композитора».
Митя же поделился своими впечатлениями в письме к одному из музыковедов: «Симфония моя вчера прошла великолепно. Чувствовался контакт между автором, дирижером, оркестром и слушателями. Успех был огромный. Полный был зал публики. Публика много хлопала, и я пять раз выходил кланяться. Все было удивительно хорошо… <…> Звучало все на редкость хорошо. <…> У меня сейчас прямо голова кружится: и от симфонии, и от исполнения (Малько великолепно играл), и от успеха, и от всего решительно…»[48]
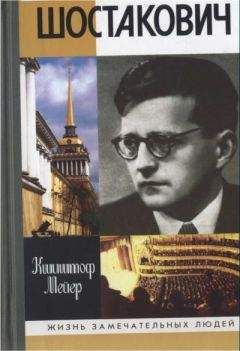


![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](https://cdn.my-library.info/books/41439/41439.jpg)