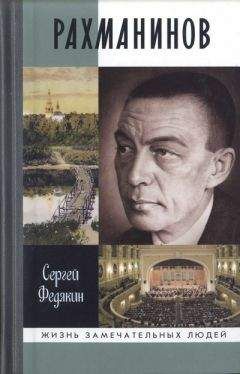На корреспонденцию Сергей отвёл час вечером. Письма сестёр Скалон читал с душевным трепетом. Упрекал, что редко пишут, немножко дурачился, называя себя «стариком», и этим раздражал Татушу.
Память о лете 1890-го всё ещё сильна. В одном из июньских писем к Наталье Скалон — запечатлённое мгновение: «Как раз в эту минуту подходит к моему окну, около которого я вам пишу, хозяйка дома (читайте моё письмо к Л. Д.) и говорит мне такую странную фразу: „пошлите ей мой привет, поцелуйте её“, затем немного отходит и добавляет: „только если она вас любит!“. Меня почему-то это ужасно поразило. Мне сделалось почему-то тяжело! больно! Бог знает что такое! Впрочем, всё равно! И то, и другое посылаю вам! Хотела ли она вам послать это или кому-нибудь другому — не знаю».
И вместе с неясными волнениями, воспоминаниями, вечерними мечтаниями в саду — творческая щедрость. За лето он написал: Фантазию для двух фортепиано ор. 5, две пьесы для скрипки и фортепиано ор. 6; симфоническую фантазию «Утёс» ор. 7, духовный концерт без опуса: «В молитвах неусыпающую Богородицу». Поразительно не столько количество, сколько жанровое разнообразие этих молодых творений.
* * *
Пьесы из его Фантазии для двух фортепиано носят названия: «Баркарола», «И ночь, и любовь», «Слёзы», «Светлый праздник». К каждой предпослан стихотворный эпиграф, и только тютчевские «Слёзы людские, о слёзы людские…» в шесть строк композитор привёл целиком. Остальные — сокращает. Венецианские образы Лермонтова в «Баркароле» почти все исчезнут, останется только «гондола» и — волны, вёсла, «гитары звон».
Второе произведение — с байроновскими соловьями и «плеском волны». Соловьиные трели разливаются по этому произведению. И музыка постепенно обретает всё более взволнованный оттенок, в аккордах начинают проступать звоны, ещё не вполне явленные.
Третья «фантазия» — о слезах «неистощимых». Произведение пронизывает завораживающий нисходящий мотив, который повторяется и повторяется, лишь меняя высоту звука и тональность. Ощущение влаги и падающих капель («слёзы людские») становится похожим на дождь («Льётесь, как льются струи дождевые»). И всё сливается с мерными ударами колокола, которые рождаются из того же изначально заданного мотива — четырех тонов новгородской Софии, — их узнавали его слушатели.
В эпиграфе к четвёртой фантазии из хомяковских строк о Пасхе ушло всё московское. Остался только благовест («…И воздух весь, гудя, затрепетал…»), а в музыке — те же новгородские колокола, уже торжественные, радостные.
Свою Фантазию в письме Татуше он назвал: «ряд картин музыкальных». Это действительно звуковая живопись. Очень сильна в них именно изобразительная сторона.
Симфонической поэме «Утёс» предпослан эпиграф из Лермонтова:
Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана…
Но музыка навеяна рассказом Чехова «На пути». Этому рассказу был предпослан тот же лермонтовский эпиграф. Музыка о несбывшемся, о той встрече, которая могла стать судьбой, но так и не стала.
«Романс» и «Венгерский танец» для скрипки и фортепиано — пьесы мелодичные, но из тех, которые исполняются не столь уж часто. Да и духовный концерт для хора без сопровождения: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали…» — пока лишь обещание, своего рода «проба пера».
* * *
Музыка, написанная летом, сразу нашла своих слушателей. Сёстры Скалон, возвращаясь в Петербург, задержались в Москве, услышали Фантазию в доме Сатиных и — вместе с Наташей — бросились его целовать.
В середине сентября ждал его и строгий суд, у Танеева, в кругу музыкантов. Был в тот день у Сергея Ивановича и Чайковский. Рахманинов принёс Фантазию и «Утёс». Чайковский встретил его пошучивая:
— Я слышу, Сергей, вы уже начали создавать шедевры? Поздравляю, поздравляю!
Пётр Ильич прочитал недавно статью Александра Амфитеатрова о начинающем композиторе «Многообещающий талант», журналист назвал его пьесы из 3-го опуса «маленькими шедеврами». Услышав же, сколько всего молодой собрат понаписал за лето, всплеснул руками:
— Ах, я, бездельник несчастный! Написал за это время только одну симфонию.
Рахманинов эту фразу — «только одну симфонию» — не забудет и через десятилетия: это была самая знаменитая, Шестая, «Патетическая».
Показывать Фантазию, написанную для двух фортепиано, он не решился. Из всего сочинённого летом она нравилась ему больше всего. И всё же на одном инструменте «Фантазия» звучала бы бледно. Прослушивание решили отложить до осени, до концерта. В этот раз Рахманинов сыграл «Утёс». Чайковскому симфоническая фантазия показалась замечательной, и он пообещал молодому композитору, что исполнит её зимой.
…С осени 1893-го Рахманинов поселился на Воздвиженке, в «Америке» — так называли эти меблированные комнаты их обитатели. Ему удалось найти жильё, изолированное от всего остального мира, чтобы попасть к себе — он проходил по коридору, поднимался на пять ступенек, здесь в закоулочке и находилась его дверь. Его запомнит современник, Александр Вячеславович Оссовский, обитавший тогда в том же доме. Запомнит лицо Рахманинова: одухотворённое, оно словно светилось.
В это время у Сергея появилась новая ученица, Елена Крейцер. Отец её, Юлий Иванович, ещё летом получил согласие Рахманинова позаниматься с дочерью. Осенью на Воздвиженку к молодому музыканту явилась мать Елены. Будущий учитель показался ей человеком хмурым и малообщительным. На Лёлю Крейцер Сергей Васильевич тоже произвёл впечатление человека строгого, даже сурового. Заметил, что рука у неё маленькая — а это не очень хорошо для трудных пассажей, — да и постановка руки оставляет желать лучшего. Сразу показал нужные ей упражнения, заметив, что дело исправить можно лишь усидчивостью, терпением и упорством.
Ученица попалась старательная, и уже при следующей встрече суровые черты преподавателя прояснились: она поработала.
Одно из первых занятий с необычайным педагогом Лёля запомнит надолго. Показывая домашнее задание, она старалась слушать только себя. Рахманинов взялся подыгрывать ей в верхних октавах какие-то вариации. Когда он ушёл, мать ученицы вздохнула:
— Какую красивую музыку играл Сергей Васильевич!
26 сентября в Париже скончался известнейший поэт и переводчик Алексей Николаевич Плещеев. Когда-то в молодости он написал стихотворение, ставшее гимном радикальной молодёжи: «Вперёд! Без страха и сомненья…». Входил в кружок Петрашевского и, как Достоевский и многие другие участники кружка, прошёл через каторгу.
Лирику Плещеева современники любили. Некоторые строки из его детских стихов — «Травка зеленеет, солнышко блестит…», «Будет вам и белка, будет и свисток» — стали поговорками. Ценились переводы поэта — из Гёте, Гейне, Рюккерта, Фрейлиграта, Беранже, Барбье.
В Ниццу на лечение поэт отправился уже тяжелобольной и скончался по дороге от апоплексического удара.
30 сентября 1893 года внезапно умер Зверев. Еще 15 сентября Николай Сергеевич давал урок в консерватории. После занятия зашёл домой отдохнуть, просто полежать, и уже не встал. Болезнь — рак печени и желудка — развивалась с такой быстротой, что врачи не могли её предупредить. От болей Николаю Сергеевичу прописали морфий. У постели его дежурили.
В день похорон, 2 октября, Рахманинов услышал подробности. За пять часов до кончины Зверев вдруг сказал: «Прощай, брат. Я тю-тю!» После забытья очнулся в полночь. Сел на кровати. Пожаловался, что ему душно. Просил, чтобы отворили окно и распахнули шторы…
В письме Рахманинова сёстрам Скалон — щемящее чувство («грустно и жалко»), слова о том, что консерваторская семья редеет, что «одним хорошим человеком меньше» и… «Он умер без причастия, не причащавшись лет десять. Ещё раз жалко!..»
6 октября в последний путь провожали Плещеева — тело покойного доставили наконец в Россию. На волне этих впечатлений появился рахманиновский опус 8-й — шесть романсов на стихи Плещеева, включая его переводы.
В музыке слышны летние, элегические чувства — и осенние, сумрачные. Любовная лирика Гейне в переводах русского поэта — «Речная лилея», «Дитя! как цветок ты прекрасна…» — перебивается «Думой» Тараса Шевченко:
Проходят дни… проходят ночи;
Прошло и лето; шелестит
Лист пожелтевший; гаснут очи;
Заснули думы; сердце спит.
Одна строка — «Живёшь ли ты, душа моя?» — звучит у композитора почти с отчаянием. И следом приходит молитва: «Но жить мне дай, Творец Небесный…»
И снова — волна любовной лирики, опять из Гейне («Сон», «Молитва»), и на стихи самого Плещеева:
Полюбила я,
На печаль свою,
Сиротинушку
Бесталанного…
В музыке романса отчётлив русский народный мелос.