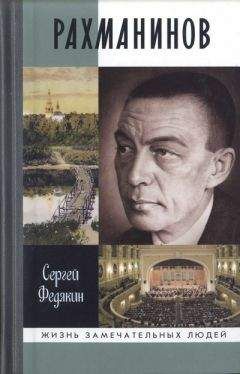Вялое, монотонное взмахивание палочкой, неживое звучание оркестра. В былые годы о таком дирижировании сказали бы: «отмахал».
Послушав, Римский-Корсаков суховато заметил молодому композитору:
— Извините, я вовсе не нахожу эту музыку приятной.
Удручённый автор чувствовал, что Николай Андреевич прав.
В том, что Глазунов вёл его главное произведение «не так», — сомневаться не приходилось. Но что-то «не так» было и в самой симфонии.
15 марта Рахманинов встретил как обречённый на смерть. Зал Дворянского собрания заполнялся. Москвичи — Танеев, Слонов, Сахновский, Наташа Сатина и Лёля Крейцер. Питерцы — чета Римских-Корсаковых, братья Стасовы, Кюи, Направник, Блуменфельд, Финдейзен, Митрофан Петрович Беляев. Вот и Дмитрий Антонович Скалон, вот и его дочери: Татуша, Цукина, Брикушка.
Рахманинов не мог находиться в зале. В самых растрёпанных чувствах вышел из артистической. Двинулся вверх, по железной винтовой лестнице, что вела на хоры. Сел на ступени. Ощущал всеми жилами удары сердца — гулкие, тяжкие… Слушал — и не узнавал свою симфонию. Или, напротив, только теперь её узнавал? То, что казалось подлинным и неоспоримым, звучало лживо, бездарно, как издёвка. Тусклая, напыщенная, с «претензиями»…
Современники запомнили тот день. Чинно сидят старейшие музыканты. Цезарь Антонович Кюи покачивает головой, пожимает плечами. Грузный Глазунов равнодушно машет палочкой… Наташа Сатина, Лёля Крейцер, сёстры Скалон смотрят на дирижёра с ненавистью.
Позже Наталья Александровна в сердцах воскликнет: «Просто он был пьян!»[49] Нет, Александр Константинович был трезв. Он всего-навсего думал о своём. Он сначала старался разучить много новой музыки, потом — как-то её исполнить. Для Рахманинова это «как-то» стало роковым.
Он сидел на лестнице, сжавшись, слушая звуковую несуразицу, что неслась со сцены. Самый одинокий в мире. Иногда затыкал уши: «Почему?! Почему?!»
Пытку собственным сочинением выдержал до конца. С последним аккордом — сорвался с места, вылетел на улицу. Бежал до Невского, увидел трамвай. Мелькнуло из детства, как любил кататься на конке, прогуливая консерваторию…
…Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня…
Строки Гумилёва появятся после крушения Российской империи, когда катастрофа станет всеобщей. Многое тогда переменится. И трамваи будут ездить сами, под электрическими проводами. Но и конка могла развить большую скорость. И разве не то же самое — чуть ли не за четверть века ранее — отозвалось в сердце брошенного в неуютный мир «странствующего музыканта»?
Мчался он бурей тёмной, крылатой,
Он заблудился в бездне времён…
И пусть этот трамвай только лишь конка. Чувства нахлынули те же: «Я добежал до Невского проспекта, вскочил в трамвай, что живо напомнило мне детство, и беспрестанно ездил туда-сюда по нескончаемой улице, в ветре и тумане, преследуемый мыслью о собственном провале».
Лязганье трамвая, скрежет колёс и — неумолимо отчётливое, тяжкое скольжение по рельсовому пути.
И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня…
«Сладкий ветер» — ветер истории — ощутим и в самые отчаянные времена. Высший суд страшит, но и даёт надежду, оттеняя значимость событий:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Но такие мировые сдвиги, о которых произнёс вещие слова Тютчев, могут свершиться и в одной человеческой душе. Рахманинов ещё долго не мог понять, что стало причиной катастрофы. Но последствия — ощутил сразу:
«Судьба порой причиняет такую боль и наносит такие смертельные удары, что полностью меняет характер человека. Такую роль сыграла в моей жизни собственная Симфония. Когда закончилась неописуемая пытка её исполнения, я был уже другим человеком».
И всё же в отчаянии чувствовался сквознячок, этот странный «ветер», если и не «знакомый и сладкий», то — отрадный. Некогда, мальчишкой, он сбегал из консерватории «на трамвай», и теперь, из сутолочной житейской «консерватории», — на трамвай.
…Тяжёлый, мерный ход и ровный скрежет как-то успокоили его. Он смог даже прийти к Беляеву, где устроили ужин в его честь. Музыканты пребывали в приподнятом настроении, подбадривали, утешали. А он чувствовал лишь, сколь он унижен, уничтожен, смят. И, кажется, лишь одно желание ещё шевелилось в нём — куда-нибудь убежать. Что удерживало? Наверное, странное чувство, что эту чашу нужно испить до дна.
На следующий день Рахманинов навестил сестёр Скалон, занял у них денег. Когда направился к тому, кто вчера так спокойно провалил его симфонию, от одной мысли, что не будь этой суммы, — не приведи Господь! — пришлось бы просить у него, — обдало холодом.
О чём Рахманинов беседовал с Александром Константиновичем? Не о Шестой ли симфонии Глазунова? Летом он начнёт перекладывать её для двух фортепиано.
После заехал к дирижёру Варлиху: тот задумал познакомить Питер с «Цыганским каприччио». Тень Лодыженской, Родной, помаячила в воздухе.
Ранним утром следующего дня, после бессонной ночи, молодой композитор уже в Новгороде. Софья Александровна Бутакова только-только встала, когда на пороге увидела своего драгоценного Серёжу. Потом поднялись брат Володя, его молодая жена. Рахманинов встретил хлопоты бабушки, видел тихое семейное счастье, столь непохожее на его бурный провал. Здесь, у бабушки, нужно было набрать в лёгкие воздуха, чтобы как-то жить дальше.
Софья Александровна опекала любимого внука. Когда 18-го он принялся за письмо Татуше, она позаботилась о тишине в соседних комнатах. Ему казалось, что бабушка ничуть не изменилась со дня их расставания. Будто и не постарела. И ещё не знал, что это их последняя встреча.
Титульный лист партитуры оперы «Алеко». Автограф * * *
Первую симфонию восстановят по опубликованному клавиру и найденной росписи оркестровых голосов уже после смерти Рахманинова. При умелом дирижировании она сразу встаёт в ряд тех сочинений, о которых говорят: «значительное». Сам композитор не раз думал вернуться к партитуре — и не мог. Быть может, отступал, когда слышал гулкие, тяжкие удары собственного сердца? Что же произошло 15 марта 1897 года?
«…Исполнение Симфонии было сырое, недодуманное, недоработанное и производило впечатление неряшливого проигрывания, а не осуществления определённого художественного замысла, которого у дирижёра явно и не было. Ритмическая жизнь, столь интенсивная в творчестве и исполнении Рахманинова, увяла. Динамические оттенки, градации темпа, нюансы экспрессии — всё то, чем так богата его музыка, исчезло. Бесконечно тянулась какая-то аморфная, мутная звуковая масса. Вялый характер дирижёра довершил всю томительную мертвенность впечатления». — К сожалению отзыв Александра Оссовского — не отклик на текущие музыкальные события, но воспоминания, написанные через многие десятилетия. Современная критика будет иной. Особенно постарался Кюи. Его статью будут цитировать, пересказывать без конца, искажая, приукрашивая. Цезарь Антонович и правда не пожалел ярких образов:
«Если бы в аду была консерватория, если бы одному из её даровитых учеников было задано написать программную симфонию на тему „семи египетских язв“ и если бы он написал симфонию, вроде симфонии г. Рахманинова, то он бы блестяще выполнил свою задачу и привёл в восторг обитателей ада. Но мы пока живём ещё на земле, и на нас эта музыка производит удручающее впечатление изломанными ритмами, неясностью и неопределённостью формы, беспричинностью самых резких выходок, гнусавым звуком оркестра, напряжённым треском меди, и главное — полным отсутствием простоты и естественности, полным отсутствием тем, болезненной извращённостью гармонизации и quasi-мелодических рисунков»[50].
Оссовский оказался прав: дирижёр погубил произведение. Но даже опытный Кюи изъяны прочтения партитуры посчитал авторскими промахами. Правда, Цезарь Антонович не мог листать партитуру — её негде было достать. Да и заметной чуткостью он тоже не отличался, а случай поострить представился… И всё же в общем потоке замечаний у него иногда вспыхивали точно схваченные черты этой музыки.
«Вместо ясных, определённых тем автор довольствуется крошечными фразками или даёт „бесконечную“ мелодию, которая по своей неопределённости и как бы случайной последовательности звуков равносильна полному отсутствию мелодии».
Если мысленно «заретушировать» отрицательную окраску суждения, то будущий Рахманинов (да и только ли будущий?) здесь явлен. Стремление опереться на короткий, выразительный мотив, преображая его потом до неузнаваемости, и — «бесконечные» мелодии, с широтой и далью, — это Рахманинов, неповторимый и сразу узнаваемый.