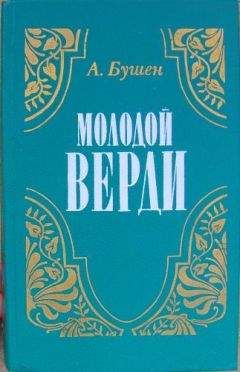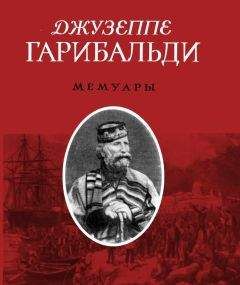Большинство же смотрело на проходящие войска, стиснув зубы, сжав кулаки и молча. Но чувствовалось, что молчать трудно. И вдруг, недалеко от композитора, кто-то сказал громко и самозабвенно:
— Сжалься над нами, о господи! Безумцы рукоплещут орудиям истребления своего народа!
И композитор невольно обернулся в ту сторону, потому что его поразила страстность, почти исступление, с которым были произнесены эти слова. И он увидел человека, изможденного и почерневшего от голода и лишений; тело его было покрыто рубищем, а взгляд горел вдохновенно, как у пророка. И тотчас на том месте, где стоял этот человек, толпа взволновалась и образовался быстрый круговорот, так что переодетые полицейские агенты, пытавшиеся арестовать изможденного человека, оказались в безвыходном положении. Куда бы они ни устремились, они всюду попадали в круг смеющихся лиц, слышали насмешливые возгласы и смелые шутки. А человек с лихорадочно горящими глазами утонул в толпе, как камень, брошенный в море. Где уж его найти!
У Массини были гости. Один из них был инженер Пазетти, другого Массини почтительно называл синьором Тассинари. Пазетти был молодым щеголем, сошедшим, казалось, со страницы модного журнала. Он считал себя эстетом и тончайшим знатоком искусства и сделал вид, что чрезвычайно заинтересован, когда Массини представил ему композитора.
— Ах, маэстро, дорогой маэстро! Очень рад, очень рад…
Тот, которого Массини называл синьором Тассинари, был гораздо старше, у него было большое мясистое лицо и тяжелые руки, и он был скорее похож на римлянина, нежели на миланца, одет он был чисто, но строго — весь в черном.
Когда композитор вошел в комнату, этот Тассинари низким приятным голосом разглагольствовал о том, что монарх показал себя всемилостивейшим, объявив амнистию политическим заключенным, что молитвы сотен тысяч верноподданных обеспечивают императору счастливое царствование и что теперь кончился наконец траур, омрачавший жизнь сотен миланских семейств.
Пазетти рассказывал о великолепии представлений в театре Ла Скала. Он говорил, что первый спектакль в честь их величеств был зрелищем поистине волшебным. Что исполнение национального гимна, музыка которого написана, как известно, гениальным Гайдном, вызвало у многих присутствующих слезы умиления. Что большая балетная сцена, мастерски и очень пышно поставленная хореографом Кортези; разыгрывается вокруг арки мира и что танцует в этой сцене Фанни Черрито, неподражаемая Фанни Черрито — чудо, богиня!
Тассинари остановил готовый вылиться дифирамб в честь Фанни Черрито. Он заговорил о банкете, во время которого его величество, стоя — и все видели, что он взволнован — провозгласил тост за своих добрых верноподданных ломбардо-венецианцев.
— Он осушил до дна сапфировую чашу мудрой ломбардской королевы Теодолинды, — сказал Тассинари. — Это рассматривается, как счастливое предзнаменование. Чаша привезена из Монцы одновременно с железной короной.
Композитор сидел молча и думал о том, что Тассинари — предатель, а Пазетти — болтун и вертопрах, и горестно сознавать, что страна не имеет собственного гимна и должна петь гимн австрийский. Это горестно и стыдно, даже если этот гимн написан одним из самых выдающихся композиторов Австрии. Он очень ценил маэстро Гайдна, любил его музыку за искренность и простосердечие и с интересом изучал его произведения. Некоторые из них — сонаты для фортепиано, квартеты и симфонии — он переписал самым тщательным образом, и они лежали у него, сложенные в отдельную папку. Он очень ценил маэстро Гайдна. Но это не меняло существа дела. Маэстро Гайдн был выдающимся композитором. Но каждая свободная страна должна иметь собственный национальный гимн.
Разговор между Пазетти и Тассинари продолжался, но композитор перестал их слушать. Он посматривал на Массини и думал, что сегодня вряд ли удастся поговорить о делах. Массини казался ему удрученным. Композитор жалел о напрасно потерянном времени и выжидал удобной минуты, чтобы встать и уйти. И он уже совсем было собрался откланяться, как к нему неожиданно обратился с каким-то вопросом Тассинари. Вопроса он не расслышал и ответить не мог. Положение его было затруднительным, но на помощь ему, сам того не подозревая, пришел Пазетти. Пазетти не стал дожидаться, пока композитор ответит, ему не терпелось продолжать начатый разговор. Композитор стал прислушиваться и понял, что Пазетти с Тассинари все еще говорят о коронационных торжествах.
Тассинари сказал, что присутствие в Милане его величества вдохновило многих артистов, и они создали великолепные произведения искусства, посвященные императору. И Тассинари назвал Андреа Маффеи, художника Мольтени, кавалера Помпео Маркези (скульптора) и поэта Солеру. Вот тут-то композитор и услышал впервые о Солере.
— Ему еще нет двадцати лет, — сказал Тассинари, — но он сумел написать весьма торжественный гимн в честь императора. Гимн называется «Амнистия» и в самых красноречивых и возвышенных выражениях прославляет милосердие и великодушие лучшего из монархов.
— Солера… Знаю, — сказал Массини. — Его стихи «Первые песни» — так, кажется, называется книга? — свидетельствуют о недюжинном поэтическом даровании.
— Под явным влиянием Манцони, — добавил Пазетти.
— Это влияние благотворное, — сказал Массини, — лучшего и желать нельзя.
— Он столько же поэт, сколько и композитор, — заметил Пазетти, — я знаю очаровательные вещицы для голоса, вышедшие из-под пера этого одаренного юноши.
— Этот одаренный юноша, — сказал Тассинари, — яркий пример того, как в нашей стране изменились и, я бы сказал, смягчились нравы. Отец его был государственным преступником, а он, сын преступника, воспевает великодушие императора.
— О, — сказал Пазетти, — государственным преступником? Я этого не знал.
— Он был приговорен к смертной казни августейшим отцом ныне здравствующего императора, — сказал Тассинари.
Массини поперхнулся вином и закашлялся.
— Смертная казнь была заменена пожизненным одиночным заключением, — сказал Тассинари.
— Позвольте, позвольте, — Пазетти очень оживился, — значит, амнистия непосредственно касается этого Солеры. Как это интересно!
— Не совсем так, — Тассинари скривил рот, как бы желая улыбнуться, — она касалась бы его, если бы он был жив. Но он уже умер.
— Ах, так, — сказал Пазетти, — в таком случае… ну, конечно…
Композитор не думал тогда, что ему придется работать с Солерой.
А с Джузеппиной Стреппони композитор встретился еще раньше, чем стал работать с Солерой. Он встретился с синьорой Стреппони в тот момент, когда постановка «Оберто» стала острой жизненной необходимостью — необходимостью, требовавшей безотлагательного решения.
Композитор переселился в Милан. Он порвал с родным городом. Он отказался от занимаемой им должности городского maestro di musica. Он переселился в Милан с Маргеритой и шестимесячным сыном, и здесь в Милане у него не было ни службы, ни постоянного заработка. От постановки оперы зависело все его будущее. Он даже не мог представить себе, как стал бы существовать, если бы опера не была поставлена. Поэтому он даже не допускал мысли, что опера может не увидеть света рампы.
Он понимал, что переезд в Милан был шагом рискованным. Рискованным, конечно, но не опрометчивым. Он много думал, прежде чем решиться на этот шаг, много думал и взвешивал все обстоятельства за переезд и против него и все же решил переехать. Вечером накануне отъезда он говорил синьору Антонио:
— Вы знаете, что не жажда наживы заставляет меня поступать так, как я поступаю. Вы знаете, к чему я стремлюсь и на что надеюсь. Я хочу работать и проявить себя. Я хочу стать настоящим человеком, а не бесполезным существом, какими вижу многих.
Это была для него очень длинная речь и очень трудная, потому что он не любил говорить о себе. И теперь, когда он счел себя не вправе молчать и сказал то, что имел сказать, — это далось ему нелегко, и ему казалось, что он говорит неестественно, по книжному. А это он ненавидел больше всего.
Но синьор Антонио понял его, как нужно было понять; он обнял его и ничего не сказал, но в глазах у него были слезы.
Композитор приехал в Милан озабоченный, но полный энергии и решимости победить. Энергия и решимость — их потребовалось очень много, чтобы продолжать бороться с препятствиями, которые неизменно вырастали у него на пути. Он приехал в Милан в феврале 1839 года с Маргеритой и малюткой сыном.
В Милане для него ничего не изменилось. Влиятельных друзей не было. Оперой «Оберто» не удалось заинтересовать ни одного импресарио.
Тотчас по приезде Верди направился в Ла Скала с твердым намерением добиться свидания с Мерелли. Теперь он решил взяться за дело сам, ни на кого не рассчитывая. Влиятельных друзей, как и прежде, не было. Надо было продвигать оперу самому.