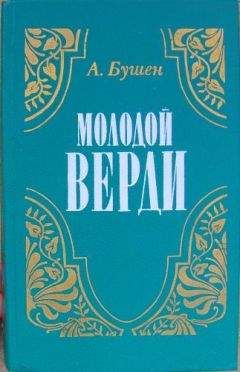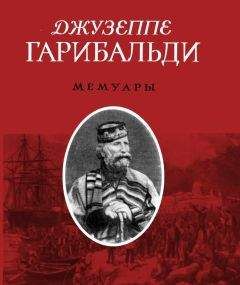— Ага! — воскликнул либреттист. — Так и знал! Был у примадонны. Очень хорошо. В порядке вещей. А я за тобой. Пора двигаться, о триумфатор! Дозволь мне, жалкому и недостойному рабу, бежать, уцепившись за твою победную колесницу!
— У меня к тебе большая просьба, — тихо сказал композитор. — Помоги мне выйти из театра так, чтобы меня никто не видел.
Солера опешил. Он всплеснул руками, присел на корточки и хлопнул себя по коленям.
— Боже мой! — воскликнул он, — да ты совсем с ума спятил! Это чудачество превосходит все, что только можно вообразить. Не ожидал — даже от тебя — ничего подобного! И говорю тебе прямо. Я не желаю принимать участия в таком глупом фарсе, в такой нелепой выходке, в таком преступлении — да, да, в преступлении. Ты сегодня не имеешь права так поступать! Не имеешь права так поступать по отношению к публике, по отношению к обществу, по отношению к людям, которые оказали тебе столько внимания и любви, да, да, будем называть вещи своими именами — столько любви. Знаешь ли ты, что делается? Вся площадь, все улицы вокруг театра запружены народом. Тебя ждут! Тебя хотят видеть! Тебя хотят приветствовать! Студенты собираются проводить тебя домой с факелами. А ты замышляешь обидеть всех проявлением твоего необузданного, необъяснимо сумасшедшего характера. Это немыслимо! Это грубо, бестактно, неприлично!
Солера говорил бы еще очень долго. Но, взглянув на Верди, он понял, что понапрасну теряет и время и красноречивые доводы. Композитор не слушал.
— Я отдал им оперу, — сказал он тихо, — а теперь хочу остаться один.
— Ладно, — оборвал свою речь Солера. — Ладно! Я тебя, конечно, не понимаю. И по-моему, ты неправ. Но сегодня ты победитель, а победителей, как известно, не судят. Пусть будет по-твоему. Рискнем! Может быть, как-нибудь и проскочим.
Они спустились по лестнице, прошли через темное фойе, спустились еще ниже, очутились под сценой, в машинном отделении. Дежуривший там пожарный не смог отказать композитору в его просьбе выпустить его вместе с либреттистом через маленькую потайную дверь, открывать которую было строжайше запрещено. Узкая, еле заметная дверь была прорублена в глубоком подвальном помещении. Выскользнув из нее, композитору и либреттисту пришлось преодолеть несколько скользких каменных ступенек. Они оказались на улице, у задней стены театра.
Здесь было тихо. Но на площади перед Ла Скалой толпилось очень много народа. Ждали выхода композитора. Слышался смех и шутки. Насвистывали и напевали запомнившиеся мотивы из оперы. Во весь голос пели хором «Унесемся на крыльях мечтаний…». От театра отъезжали последние кареты. Под копытами лошадей вспыхивали искры. Свечи, мерцающие в граненых стеклянных фонарях, казались блуждающими огоньками. Композитор и либреттист, смешавшись с толпой, отошли от театра незамеченными. Они закутались в плащи и низко надвинули на глаза широкополые шляпы.
— Точно заговорщики, — смеялся Солера.
Они шли очень быстро. Ночь была безлунной, но небо светилось от множества звезд.
— Ура! — сказал Солера, когда они вышли на улицу деи Сорви. — Спасены!
Кругом было тихо. Городской шум остался далеко позади, на центральных улицах. Было темно и безлюдно. Фонари попадались редко. Прохожих в этот час совсем не было.
— Знаешь, — сказал Верди, — я пережил сегодня поистине ужасающую минуту. Во время первого финала. Когда раздались эти неожиданные крики и топот, и аплодисменты, я испугался до смерти. Мне показалось, что опера терпит фиаско, начинается кошачий концерт, и публика сейчас бросится в оркестр и растерзает меня в клочья. Это было очень жутко. Хорошо, что это состояние продолжалось недолго. Я бы не выдержал!
Верди тихо засмеялся. Солера пожал плечами.
— Нервы, — сказал он авторитетно, — нервы, нервы и нервы! Из-за твоего идиотского образа жизни. К счастью, всему этому теперь приходит конец.
Они шагали молча и дошли до низких строений на площади Сан Романо.
— Ну, вот я и дома! — сказал Верди. И остановился. Он выглядел смущенным.
Солера смотрел на него с удивлением.
— Послушай, — сказал Верди ласково, — я бы не хотел, чтобы ты обижался на меня. Но я хочу просить тебя не подниматься ко мне. Мне необходимо остаться одному. Не сердись на меня за это!
Солера хотел было дать волю своему возмущению. И вдруг в его лице произошла перемена. Глаза его стали влажными. Он с неожиданной, не свойственной ему нежностью обнял композитора за плечи и сквозь слезы посмотрел ему в глаза.
— Ты чудак! — сказал он голосом, прерывающимся от волнения. — Ужасный, неисправимый чудак! Ну и оставайся таким, бог с тобой. Но ты, несомненно, гениальный композитор. Знаешь ли ты это? Многие, очень многие поняли это сегодня. А завтра об этом заговорят все. Слышишь? Ты гениальный композитор и настоящий патриот. Лучшим людям во всем мире будет дорого твое имя, я совершенно уверен в этом. И родина будет гордиться тобой!
teint — (фр.) цвет лица.