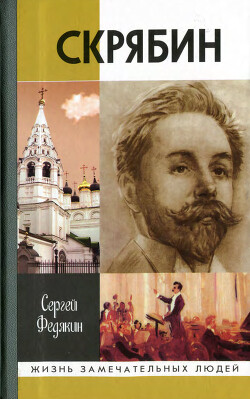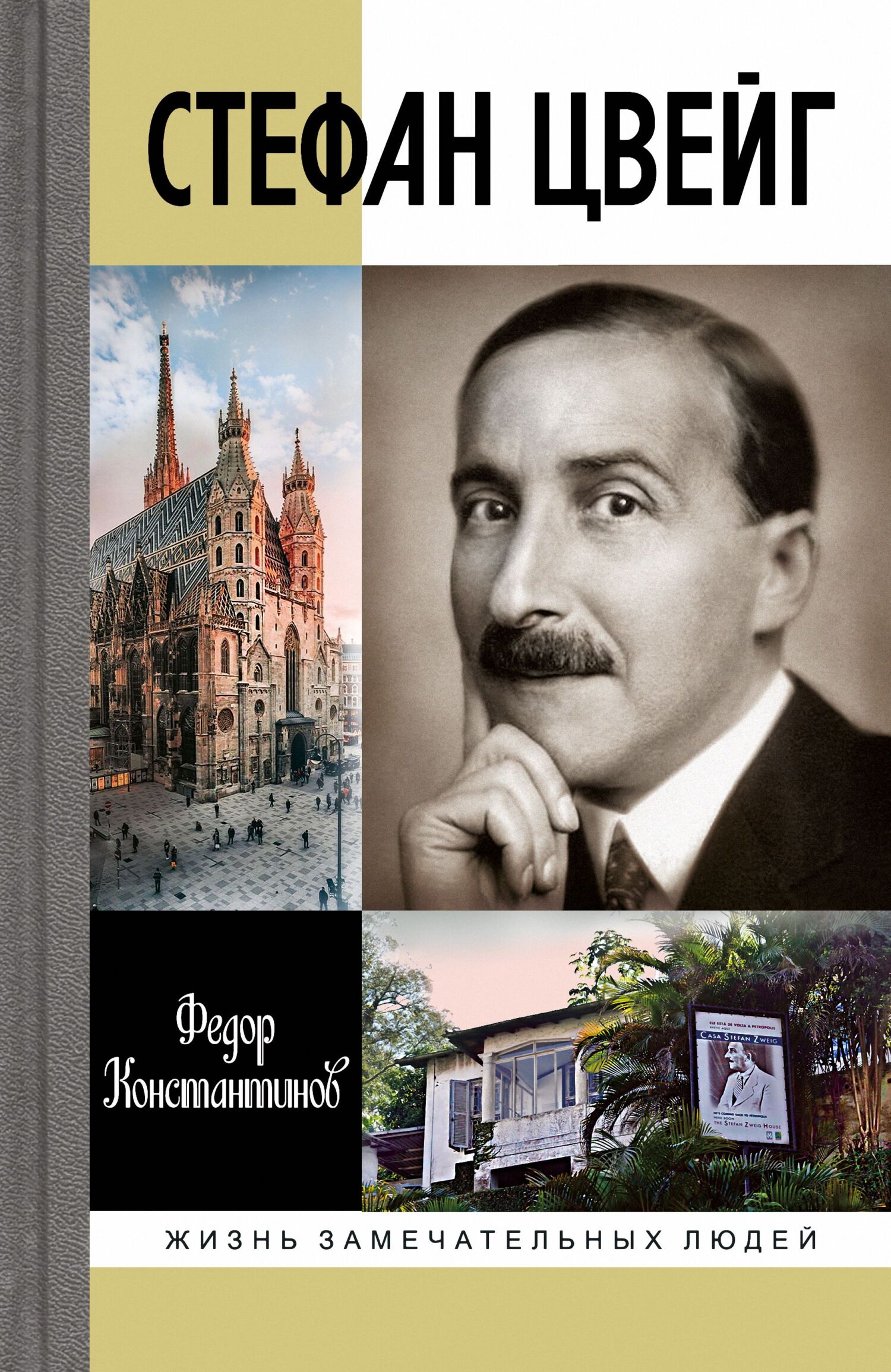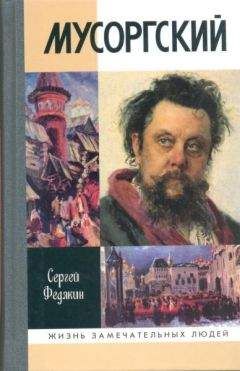«…Поезд еле заметно уклонился куда-то в сторону. И в сердце захолонуло. Всякий раз чувствовал я этот внутренний трепет, когда из-за дали, из-за луговин и холмов возникали строи нагих утесов, кое-где уже серебрящихся. И ныне они всплыли.
Впереди были те же пастбища и холмы, раскидывающиеся в ясном свете дня; за ними — тени в серебристо-голубых покровах. Надо всем кругозором — клубы облак с необычайно тонкими и отчетливыми очерками и удивительно выпуклыми белоснежными гребнями. Облака эти и призрачные, и невероятно-явные, воплощенные, как бы изваянные, так что под осязание просятся. А над ними вдали — призраки нагих гор, более смутные и зыбкие, чем облака. И эти величавые, неведомо откуда возникшие видения ясно озаряются светилом дня. И плотному, сомкнутому образу этих облаков в неосязаемом воздухе взор не хочет верить. Они непостижимы, но гладкие луга и пышные кущи лежат ровно, во всю ширь, все в солнце, а призрачные глыбы и слепки так явно высятся над ними и покоятся. Все это — и горы, и облака — волшебные привидения среди бела дня, воочию открылись все темные тайны туманных далей.
И не решаешься вглядеться в это чудо: боишься, что оно исчезнет под упором взоров, и не оторвать от него глаз, и нет мига без изумления».
* * *
Скрябин в Швейцарии. В первые дни — ощущение свободы и легкости. Он дышит новым воздухом. Впереди — тревожное будущее. И радостное. (Так же тревога и радость сплетаются в основополагающей теме «Божественной поэмы», которую он стремится в скором времени завершить.)
Его влечет к Татьяне Федоровне. Из Женевы он шлет ей письмо, полное сомнений («Таня, я с ужасом думаю о том, как ты перенесешь путешествие в Швейцарию. Ты не можешь себе представить, как это утомительно! Не знаю, что и посоветовать тебе…»). И здесь же — беспокойство о ее здоровье, деловые указания, где, как, за какие деньги можно остановиться, и — нетерпение («Хорошо было бы тебе поскорее уехать, пока не настала весна в Москве. Здесь уже тепло, деревья начинают зеленеть»). Но главное: «Страшно хочу тебя как можно скорее видеть».
Вера Ивановна, привыкшая к увлечениям мужа, обеспокоена его новым романом, но склонна надеяться на лучшее. Она едет с четырьмя детьми вслед за Александром Николаевичем в Женеву, оттуда они вместе, стараясь найти квартиру подешевле, перебираются в дачное место Везна на берегу Женевского озера. Их сообщение с Женевой — пароход, трамвай, конка. Вера Ивановна чувствует себя вполне благополучно. «У нас довольно миленький домик с полной меблировкой и посудой, с маленьким, но хорошеньким садиком, с чудным видом на озеро и горы противоположного берега… — пишет она Зинаиде Ивановне Монигетти. — У Саши есть комната на самом верху; там стоит пианино (рояля нет в целой Женеве) и там он может уединяться». Скрябин, действительно, наслаждался тишиной и природой, но лишь в редкие минуты, когда он отрывался от работы и когда забывал о будущем: скорую перемену в своей жизни Скрябин ощущал как неизбежность.
Его намерения в отношении Татьяны Федоровны слишком серьезны. В письме своей ученице и нынешней благодетельнице Маргарите Кирилловне Морозовой — признание: еще в Москве он рассказал Сафонову о своих жизненных планах и, хотя был уверен в порядочности Василия Ильича, тем не менее его беспокоит собственная чрезмерная откровенность. В Морозовой Скрябин видит не просто мецената, но беззаветного друга, с которым можно говорить о самом личном. Ее, как друга, он и просит об одном довольно странном одолжении. Речь идет именно о Василии Ильиче Сафонове:
«…все-таки я хотел бы еще более укрепиться в моей уверенности в нем в данном отношении и просить Вас испытать его, то есть при разговоре с ним заметить, не будет ли с его стороны хотя намека на желание сказать Вам что-либо, касающееся того факта. При этом, конечно, он не должен и подозревать о том, что Вы посвящены. Если он догадается, что Вы знаете, будет ужасно. Он и так уже упрекал меня в излишней откровенности с Вами (когда узнал от Веры, что Вам известно о М.). Дорогая моя. Вы сделаете это. Да? Если бы это только меня касалось, мне было бы все равно, но ради других я бы не хотел грязных сплетен».
Как все переплелось в его смятенном сознании! И воспоминание о прежнем увлечении «М.», ветреницей Марусей, и столь нелепая просьба «испытать» Василия Ильича, — просьба на первый взгляд не совсем корректная…
Все же что-то угнетало его, раз он решился на эти откровенности. Сказалось ли в этом письме только лишь «раздерганное» сознание Скрябина? Или в этих строчках таится предчувствие? Фраза «ради других» указывала на Татьяну Федоровну, и Василий Ильич Сафонов еще сыграет роковую роль в его и ее будущем, хотя и совсем без злого умысла. О том же, как в годы «без Скрябина» по Москве ползли о композиторе зловещие слухи, в которых нелепым образом переплелись отголоски его грандиозных музыкально-философских замыслов и «впечатления» о его личной жизни, расскажет позже Леонид Сабанеев:
«Чего только не наговорили на него в эти его годы отсутствия из России. На него врали как на покойника. Один музыкант серьезно уверял меня, что в Париже у Скрябина от его новой жены родился «не мышонок, не лягушка, а неведомый зверушка» и что этого мистического монстра посадили в спирт и поместили в музей. Считалось это ярким и убедительнейшим доказательством того, что Скрябин — «дегенерат». Но толком никто не мог ничего объяснить ни о замыслах, ни о идеях Скрябина».
Впрочем, в проектах своих — и творческих, и житейских — Скрябин действительно бывал фантастичен. На Морозову он возлагает особые надежды. «Мой дорогой друг» — это постоянное в его письмах обращение к ней. Он действительно полон надежд обрести в ее лице не просто мецената, но друга.
Маргарита Кирилловна тоже собиралась вскорости прибыть в Швейцарию. И Скрябин ходит, ищет ей удобное для жилья местечко. Возможно, он рисовал в своем воображении и ее помощь при трудных разговорах с женой. По крайней мере, в новом письме к возлюбленной — помимо очередных указаний, как ей с наименьшими трудностями добраться до Женевы, — особая оговорка: «Сообщи мне вовремя о приезде в Женеву. Я постараюсь тебя встретить, что будет не легко, так как твой приезд нужно скрыть до приезда Маргариты Кирилловны».
Татьяна Федоровна приехала в Женеву в начале апреля и поселилась в Бель-Рив, недалеко от Везна, где жили Скрябины. Скрыть ее приезд, конечно, не удалось. И к Морозовой летит уже письмо от Веры Ивановны («Не особенно обрадовал меня и приезд Тани Шлёцер»). Что жене Скрябина приходится переживать — легко понять из ее признания: «Я сильно работаю над собой, чтобы заставить себя равнодушно относиться к тому громадному количеству внимания, которое Саша ей дарит».
Но по-своему, тоже вполне «фантастично», Скрябин «дарит» свое внимание и жене. Ведь настанет время, когда Вера Ивановна останется одна. И чтобы она чувствовала себя уверенней, ее надо вернуть к концертной деятельности. Он готов пройти вместе с женой все написанные им сочинения, чтобы ей легче было появиться перед публикой.
В этой житейской неразберихе он делает наброски — стихотворные и нотные — к будущей «Поэме экстаза», работает над корректурой фортепианных пьес (это его опусы с 38-го по 42-й: последний вальс, последние мазурки, прелюдии, поэма, этюды), торопится завершить свою симфонию.
Но в рамках музыки ему тесно. Именно в Везна он начинает примеривать на себя роль проповедника.
«То лето я жил также на Женевском озере, — вспоминал Юлий Энгель, — только на другом конце его. Однажды я отправился в Женеву. Меняю там деньги в банке и слышу, кто-то окликает меня по-русски. Гляжу — Скрябин. Он так мило и настойчиво стал упрашивать меня поехать к нему в Vesenaz, что я бросил часть дел и отправился вместе с ним.
Поехали на пароходе. Солнце ярко светило; дул свежий ветер; от голубых волн веяло прохладой; кругом раскрывались прекрасные перспективы долин и гор. Было радостно, празднично, ласково. Эта ли обстановка подействовала на Скрябина или он просто соскучился по «свежем», вне-домашнем человеке (да еще за границей), но только сразу же он заговорил со мной особенно интимно, как бы доверяя свои задушевные мечты и надежды.