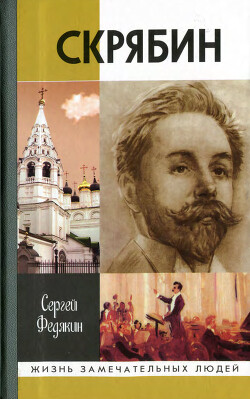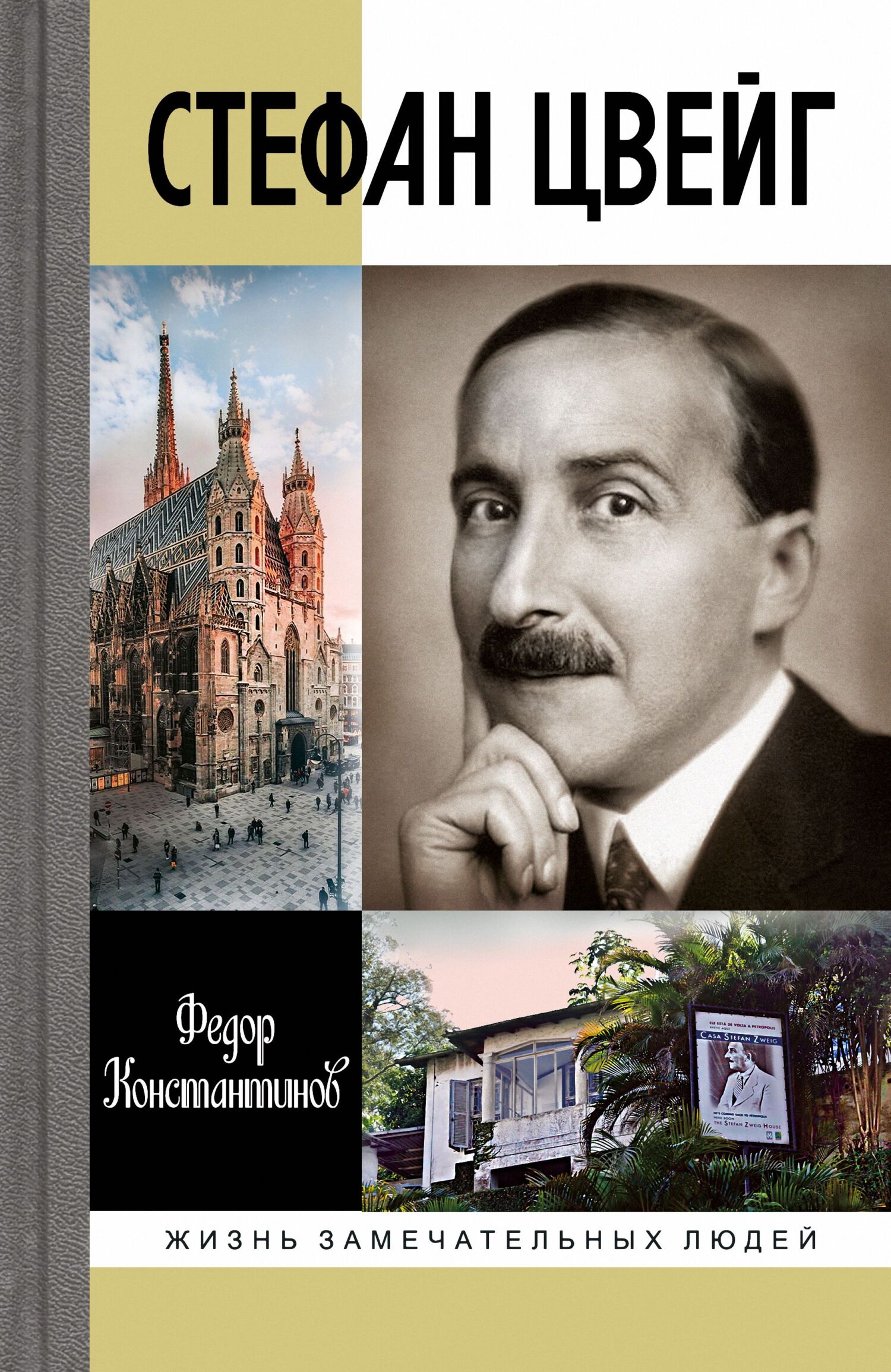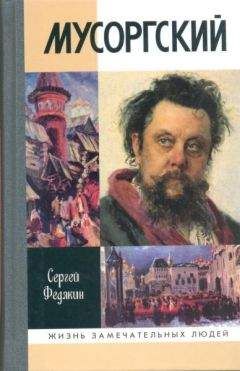* * *
С детства — не любил детских игр и шалостей. Был необычайно самостоятельным, интересовался всем, засыпал взрослых вопросами, но сам тон, каким он обращался к тете, бабушке или кому-нибудь еще, выдавал недетскую осмысленность и продуманность того, о чем он спрашивал.
Рано выучился читать и писать, — и без наставников. Просто подходил и спрашивал: «Что это за буква?» — чтобы тут же списать с книги. Словно предвидя эту потребность сына быть во всем самостоятельным, отец подарил ему небольшой письменный столик со стульчиком, которые нашли свое место в уголке комнаты тети Любы. Здесь — изо дня в день — проходит главная часть жизни маленького Скрябина.
Тетя вспоминает, что на столике всегда должны были лежать бумага и цветные карандаши. Любовь к рисованию могла быть наследственной: отец его матери, Петр Нилович Щетинин, «из мещан», работал художником при Императорском фарфоровом заводе и, судя по тем вознаграждениям, которые он получал за работу, — был художником большого таланта. Дядя Скрябина, Николай Петрович Щетинин, начав с той же работы при фарфоровом заводе, уйдет из жизни академиком живописи, причем самым известным его полотном, которое получит в 1871 году золотую медаль на Международной выставке в Париже, будет портрет сестры — матери композитора, Любови Петровны Щетининой.
Детская любовь Скрябина к рисованию и вообще к наглядности перейдет не только в его философские штудии, когда он будет вычерчивать свои «схемы эволюции». В музыке Скрябина тоже явно проступает «живописное» начало, особенно когда появятся его пьесы «с характерами»: «Поэма томления», «Загадка», «Хрупкость», «Ласка в танце». Или идея соединения музыки со светом. Да и тонкая нюансировка в исполнении, особая «светотень» в его игре выдавали красочное восприятие рояля.
Помимо «одаренности как таковой» в маленьком Скрябине заметна еще одна немаловажная черта — целеустремленность. Он равнодушен ко всему ненужному, к любым игрушкам, кроме музыкальных (и раздаривает «прочие» игрушки другим детям), равнодушен к сказкам («не нужно, тетя, читать, это все неправда»). Зато увлечен собственными фантазиями, особенно — драматическими. В семь лет ему купят детский складной театр с готовыми фигурками, декорациями и описанием действия. Театр станет «любимцем», а готовые пьесы маленький Скрябин отложит в сторону, предпочитая им свои сюжеты или свои инсценировки (из них запомнится поставленный маленьким режиссером-исполнителем гоголевский «Нос»). Сочинять же будет не только драмы, но и декорации.
«Попросив у меня голубого газу и разных шелковых лоскутков, он положил их на бумагу, к которой приделал проволоку, и сделал «волнующееся море», — любуется маленьким Шуринькой его тетя. — Он как-то повертывал проволоку, бумага двигалась под газом, — создавалось впечатление волн, как он сам пояснял».
За сочинением текста и работой над декорациями начиналась и подготовка к воскресным представлениям: Саша готовил билеты, разносил их по комнатам, и к семи вечера его зрители (из домашнего круга) собирались к премьере. Маленький Скрябин говорил за разных героев, меняя голос, и краем глаза еще успевал следить за чувствами его домашней публики. Однажды удивился, что печальные сцены не вызвали заметного сочувствия, в другой раз, когда один из дядюшек в подобном эпизоде громко зарыдал, был обижен до слез: «В настоящих театрах так громко не плачут!»
Сказок, их «неправды», не одобрял, зато с удовольствием слушал Диккенса и Вальтера Скотта. Позже — читал и Шекспира, и Мольера и вслед за классиками пытался писать трагедии. Сидел за своим письменным столиком, писал, волновался, вскакивал, размахивая руками, декламировал то, что сочинилось, — снова садился, снова писал. И, создавая драмы, всегда старался соблюсти канон: трагедия должна была состоять из пяти действий. На беду события его пьес были столь драматичны, что уже к третьему действию живых героев не оставалось. И маленький Скрябин жаловался своей дорогой наставнице:
— Тетя, больше некому играть.
Она листала его сочинение, удивлялась: что же у тебя так много смертей? — и слышала поразительный ответ:
— Что же делать, тетя, когда им только оставалось умереть…
Это детское творчество может умилить, может поразить своей целенаправленностью, может вызвать ироническую улыбку: не только люди знаменитые прошли через счастливое и неповторимое детство.
Но было ли это детство счастливым? И нет ли в некоторых рассказах воспитательницы Скрябина черт иных, лишь с виду забавных, а в сущности — неожиданно жутких?
Трагедии маленького Скрябина прерывались «смертью всех». Но что взрослый Скрябин «задумает» в своей «Мистерии»? — Конец света, «дематериализацию», преображение всего земного. Зачем человечеству нужно «дематериализоваться»? Скрябин услышит этот вопрос не однажды, и ответить на него ему будет затруднительно. Но разве в детские годы он уже не разрешил этого вопроса? «Что делать, тетя, когда им только оставалось умереть!»
Однажды один из друзей Скрябина, Леонид Сабанеев, будет разговаривать с уже старенькой тетей композитора и услышит из ее уст по поводу скрябинской «Мистерии»:
— Ведь у него это давно, это стремление. Он еще в детстве писал все трагедии, и даже ставил… у него театр такой домашний был…
Сабанеев, воссоздавая в своих воспоминаниях этот эпизод, не может удержаться от улыбки: «Видно было, что для нее и замысел Мистерии был чем-то вроде той же детской трагедии, только расширенный и зрелый». Но в наивном ответе воспитательницы композитора больше понимания самой сути скрябинской «Мистерии», нежели во «всепонимающем» взгляде высокообразованного музыковеда. Человечество должно «дематериализоваться» — в этой вере композитора слышится та же непререкаемость, как и в убеждении Саши Скрябина, что трагедия должна состоять из пяти актов. Если трагедия началась, она неизбежно приходит к своему классическому концу, первый ее акт уже подразумевает и пятый. То, что трагедия человечества началась давно, — было для композитора Скрябина очевидностью, и перед его мысленным взором рисовался ее неизбежный пятый акт, к которому он также должен «приложить руку», как и к детским своим сочинениям.
«Чужая душа — потемки». В отношении Скрябина — истина совершенная. Слишком невероятны были цели, которые он ставил перед собой. Как он мог мечтать о грандиозном «конце света» всерьез, взрослым уже человеком? Не потому ли, что «конец света» — смерть матери — как-то «связался» с его появлением на свет? Не потому ли, что, взрослея без матери, он так и остался на всю жизнь ребенком? И нет ли в его детских увлечениях тайного присутствия умершей?
— Но это же катастрофа! — последние слова композитора так похожи на воспоминание о своем рождении! Но — и на воспоминания о «пуховом» детстве: его жизнь сразу пошла «не так».
Все вопросы, которые рождаются при знакомстве с его музыкой и его мироощущением, отсылают нас к детским годам, когда Александр Скрябин был только «Шуринькой». Но здесь, — в главном рассказе об этих первых годах его жизни, воспоминаниях его тети и воспитательницы, Любови Александровны Скрябиной, — мы почти не видим маленького Сашу рядом с другими людьми. Они в этих воспоминаниях тети словно бы случайны и необязательны. Он же — почти самодостаточен. «Я есмь» — известная философская формула, столь важную роль сыгравшая в его творчестве, философская формула, которую он изумительно точно мог передавать, минуя слово, только музыкой, — она будто продиктовала и мемуары горячо им любимой тетки. И особенно — когда она пишет о его тяге к музыке.
* * *
Повествование Любови Александровны о музыкальной одаренности племянника расслаивается на два разных сюжета. Обожал, когда дарили музыкальные инструменты, имел шарманку, множество разных дудочек. Потом появляется свистулька: «Когда мы жили на даче в селе Свиблово, пришел как-то мужичок с разными детскими игрушками, среди которых оказался глиняный петушок. Этот петушок я сейчас же купила Шуриньке. Сначала он смотрел на него с большим недоверием, но наконец поднес к губам и заиграл так хорошо, что получилось подобие пастушеской свирели. Около него сейчас же собралось несколько человек детей, которые с большим вниманием слушали его, чем он остался очень доволен».