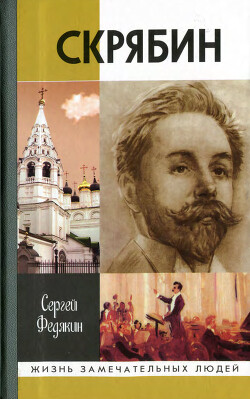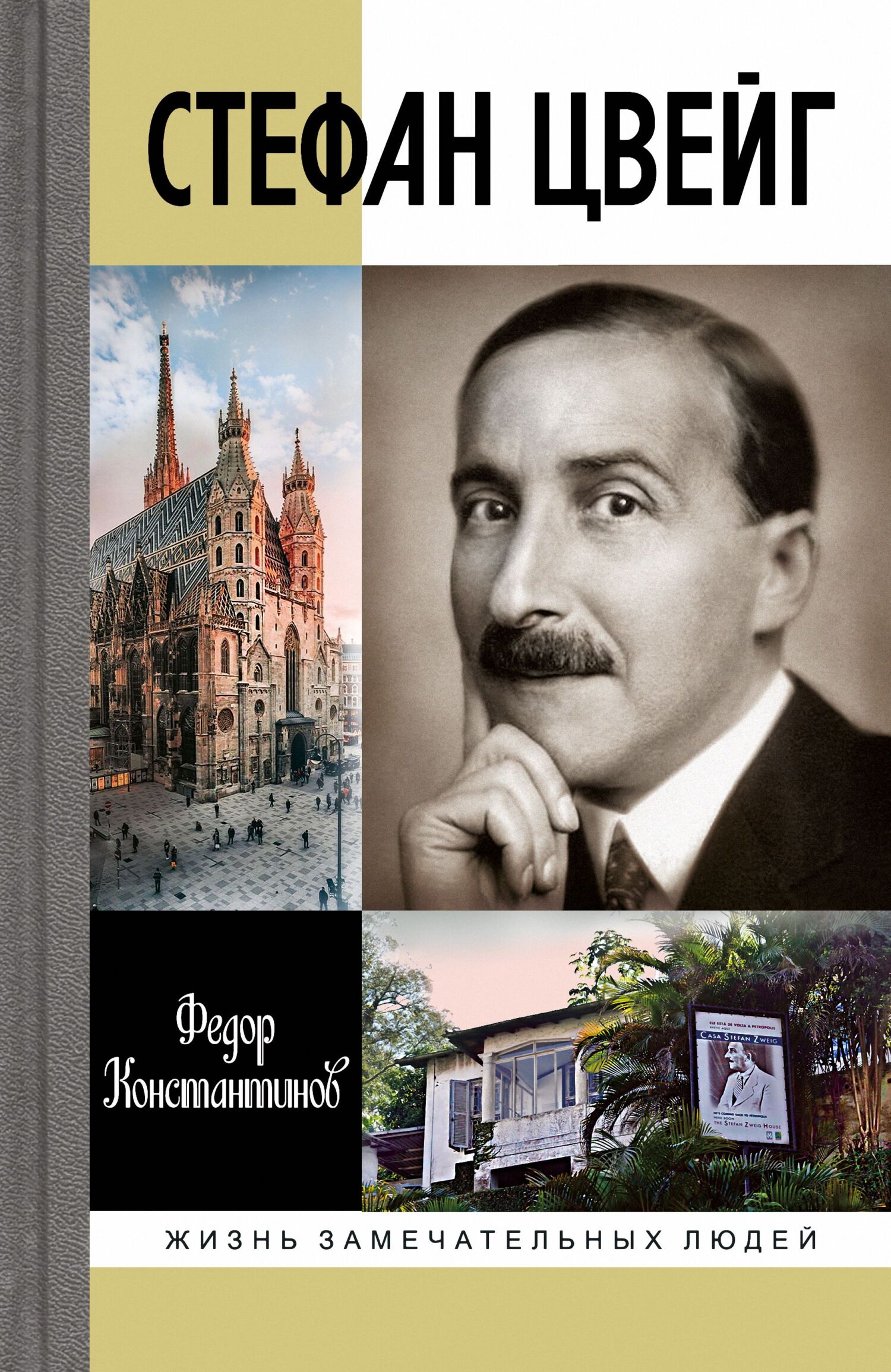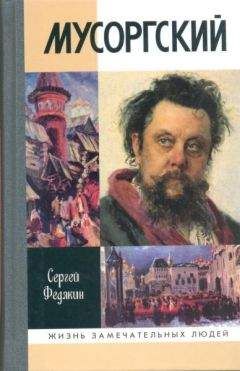В пять лет появится и скрипка, которую он, судя по воспоминаниям тетки, освоил очень быстро.
1877 год. Русско-турецкая война. Его дяди уходят на фронт. Одного из них провожает и Шуринька. «Когда эшелон был посажен в вагон, оркестр заиграл веселую кадриль «Вьюшки». Возвратившись домой, Саша сейчас же бросился к роялю и сразу сыграл самую веселую последнюю фигуру кадрили «Вьюшки», потом взял свою скрипку и точно так же без всякого затруднения сыграл то же самое. А на другой день он играл уже всю кадриль как на том, так и на другом инструменте».
О той же изначальной любви к музыке повествует Любовь Александровна, когда вспоминает о посещении итальянской оперы, где Саша Скрябин встает перед нами с горящими глазами, с румянцем на щеках, где во время антракта он упрямо сидит в зале и мучает тетку вопросами о каждом инструменте из тех, что оставались в оркестровой яме, покинутой музыкантами. О музыкальности его души — и занятная история об архимандрите Златоустовского монастыря, знакомом деда, временами приходившем в гости к Скрябиным («Он очень любил музыку, — тайком от своих послушников заводил музыкальный ящик. Первым делом, когда он приходил к нам, сажал Сашу за рояль, садился сам около него и подолгу слушал его игру»). Здесь же, в этом ряду, и картина — Шуринька радом с дядьями: «Я видела его смеющимся и радостно возбужденным лишь по субботам, когда все мои братья — его дядюшки — приходили домой на праздник. Все они очень любили его. Саша взбирался то к одному, то к другому на плечи, и они бегали с ним по комнатам. Все мои братья имели музыкальные способности, но серьезно музыкой не занимались. Они играли в оркестрах на разных инструментах и, приезжая домой, привозили их с собой. Здесь были и скрипка, и флейта, и кларнет, и другие инструменты. И когда они начинали играть какой-нибудь веселый вальс, Саша смеялся и прыгал».
Но есть фрагменты воспоминаний Любови Александровны, где этот рассказ о музыкальной одаренности вдруг расслаивается и сквозь общие сведения начинает проступать нечто иное.
«Пяти лет он уже наигрывал на рояле обеими руками. Во двор часто приходили шарманщики; он слушал их, а потом сейчас же садился за рояль и очень верно наигрывал все только что услышанное. Иногда играл и свое, что-то очень мелодичное».
Сначала — внешняя копия, затем — вслушивание. В самого себя? В музыку как таковую? В голос рояля?
Этот второй сюжет из воспоминаний Любови Александровны — не только повествование о детстве гениально одаренного композитора, но и рассказ о чем-то для него интимно-личном.
* * *
Саша однолеток, на коленях кормилицы, сидит рядом с тетей, которая играет на рояле, но стоит только его взять на руки, чтобы унести, — он начинает плакать. Саша, уже чуть подросший, тянется к роялю, властно говорит: «Тетя, посади». Она сажает его на колени, кладет маленькие ручки племянника на свои, начинает играть… — «Личико его делалось радостным».
А вот он сидит на подушечке, положенной поверх стула у рояля, дотрагивается пальчиком до клавиш, часами пробует извлекать звуки…
Любовь Александровна пишет биографию уже ушедшего из жизни племянника. Ей около семидесяти, — возраст, когда память отрывочна, зато выбирает из прошлого самое дорогое. О тех, кто был рядом с «Шуринькой», — почти ни слова, редкие, случайные упоминания. Друзей-одногодков мы не увидим, появится только детский оркестр, когда сверстники попытаются его выманить в свою компанию:
«Их собралось человек двадцать, набрали они всевозможных дудочек, свистулек, барабан, бубны и пришли просить его дирижировать их оркестром. Так как Саша часто бывал в опере, с большим вниманием следил за дирижером и дирижирование оркестром было ему знакомо, то он согласился. Дети пришли к нам в сад, поставили ему ящик, на котором он должен был стоять, дали хорошенькую палочку, что, видимо, доставило ему большое удовольствие. В репертуаре их были разные детские песенки, вальсы, кадрили. Все дети неистово дули в свои дудочки и в то же время подпевали. Выходило что-то ужасное. Мой Сашенька, как видно, очень волновался, останавливал их, говорил, что нельзя так громко голосить. Кончилось это тем, что он еще один раз продирижировал и сказал мне, что больше не может их слышать, и уже не выходил к ним».
Музыка интересней друзей. И лучше жить внутри своей музыки, нежели играть с друзьями.
Он сторонился детей, не особенно нуждался он и во взрослых. Разве что не любил оставаться в комнате один, но зато если взрослый был рядом — его для Скрябина словно не существовало, настолько он был погружен в собственные занятия.
Не терпел одиночества, но обожал уединение. О его детских играх с самим собой — чуть ли не половина воспоминаний Любови Александровны из тех, которые можно отнести к детству.
* * *
«Я есмь» — главная формула жизни Скрябина, начиная с самых ранних лет. И все же есть на свете одно существо, которое Шуринька любит напряженно и мучительно, до самозабвения. Вслушаемся в тетино описание Сашиных будней:
«Каждый день после завтрака я или дедушка ходили с ним гулять. Мы жили тогда недалеко от Кузнецкого моста, где находился музыкальный магазин Мейкова и где я была абонирована на ноты. Шуриньку там все знали и были очень довольны, когда он появлялся в магазине. Для него это была самая любимая прогулка. Когда он приходил, почти все служащие окружали его, затем подводили к какому-нибудь роялю, открывали деку, ставили стул, на который он сейчас же влезал и начинал рассматривать с большим вниманием и терпением устройство рояля. Потом он подходил к клавиатуре. Его сейчас же усаживали и просили сыграть. Сначала он довольно застенчиво играл что-нибудь им слышанное, а потом начинал импровизировать. Видя, что все слушают его со вниманием, он увлекался и играл довольно долго. Хороший рояль доставлял ему большое наслаждение. Он никогда не кончал своей игры сам, приходилось мне или дедушке напоминать ему, что пора домой. Саша всегда был послушным ребенком — сейчас же вставал и просил кого-нибудь из служащих поскорей закрыть рояль, а то, как он говорил, рояль может испортиться».
Бросается в глаза и природная одаренность, и пытливость: устройство рояля рассматривает настойчиво и терпеливо. (Несомненно, в его сознании устройство инструмента и собственно игра на нем связываются во что-то нераздельное.) Но еще больше поражает эта забота о рояле со стороны ребенка. В таком возрасте дети — если не принимать в расчет игрушки — к большинству предметов относятся с известной долей беспечности. Скрябин же столь внимателен к инструменту, что можно подумать: это и есть любимейшая его игрушка. Но то, о чем повествует тетя, говорит не столько о простой привязанности, сколько о болезненной и драматической любви.
«Каждое лето мы переезжали на дачу и перевозили для него рояль, так как без инструмента он тосковал. Перевозил нам рояль музыкальный магазин. Несмотря на это, Саша очень волновался, что рабочие могут его уронить. Умолял меня попросить, чтобы они несли его как можно осторожнее, а сам убегал в свою комнату, бросался на кровать, прятал голову под подушку и лишь тогда успокаивался, когда узнавал, что рояль цел, невредим и стоит на своем месте. Тогда он бежал к нему, осматривал его, ласкал, как человека».
Он не может выносить надсадных «вздохов» рояля, когда его, пыхтя и напрягаясь, тянут на себе грузчики со вспухшими на лбу жилами, когда они, чтобы поправить ремни, дергают инструмент. Сам он, большой, черный, блестящий, всей тяжестью навалившись на уставших людей, плывет, слегка раскачиваясь, и внутри его слышатся ропот струн и жалобные отзвуки.
Маленький Скрябин не просто обожает, — он одушевляет рояль (простой механический инструмент!), из которого могут исходить чудесные звуки, рождаясь под пальцами тех, кто умеет играть. И потому нисколько не удивляет признание тетки: «К этому инструменту у него было нежное чувство, как к живому существу». Но и это — не самое неожиданное в жизненной драме маленького Скрябина. От его воспитательницы мы узнаем, что рояль он не просто одушевлял, но и — расставаясь с ним на ночь — целовал его. Это больше чем любовь к игрушке, даже очень хорошей, по-настоящему любимой.