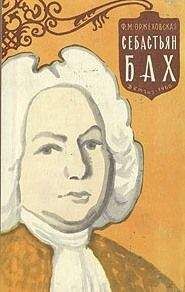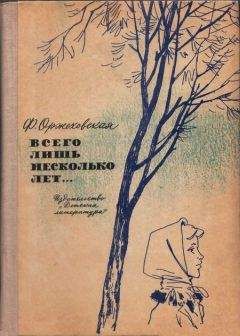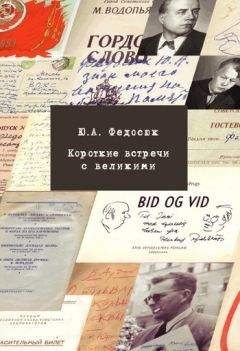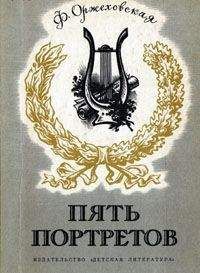Через много лет, вспоминая Венецию пятидесятых годов и свою «Тристанову дорогу», Вагнер приходил к мысли, что в его опере много противоречий. Язычник, способный послать женщине отрубленную голову ее жениха, вряд ли мог быть таким развитым, душевно тонким, как герой «Тристана и Изольды». Да и этот призыв к небытию, эта пессимистическая философия девятнадцатого века — мог ли средневековый воин проникнуться ею? В ту пору, когда опера создавалась, эти мысли не тревожили Вагнера. В романе, например, это бросилось бы в глаза. Но то, что невозможно в книге, оказалось оправданным в опере. В музыке возможны любые чудеса. При изысканном, изощренном языке оперы, который и для середины девятнадцатого века был слишком новым и смелым, Тристан оставался первобытно цельной натурой, а его эпоха — до конца выдержанной.
И отчаяние Вагнера отступило. Его дух мужал от одной сцены к другой, и, когда опера пришла к концу, он почувствовал себя здоровым и крепким, словно вся кровь молодого Тристана перелилась в его жилы. Раз творчество не покинуло его, он мог удвоить, удесятерить свои требования к жизни. Ибо это были прежде всего требования к себе самому.
Симфоническая опера, опера-симфония — так он назвал бы ее. Мотивы печали, восторга, ожидания счастья, утраты — сколько бы их ни перечислять, на человеческом языке нет определений для всех оттенков чувств, которыми располагает музыка. Вступление к опере и сцена смерти Изольды гигантской аркой обрамляли величественное здание. И, хоть на фортепиано нельзя было передать все изменения оркестра — может быть, и Листу это не удалось бы, — но молодые гости, которым Вагнер играл отрывки из оперы, были потрясены. Что бы ни говорили Козима и Бюлов, видно было, что музыка их покорила, да и сама идея оперы не оставила их равнодушными. И это хорошо, что они пришли. Бюлов — знаток, его мнение ценно. А жена Ганса как бы олицетворяет ту пылкую, непосредственную молодежь, для которой, собственно, и написан «Тристан».
Бюлов восхищался откровениями мастера, а Козима узнавала повесть о любви, недоступной ей. Да, это бывает, и вот как об этом рассказано.
Она была молода и несчастлива — вот что она сознавала. Но, если когда-нибудь голос жизни позовет ее, будет ли она достойна этого зова?
Позднее в гостинице она стояла у окна, всматриваясь в темную даль.
— Тебе не спится, — сказал Бюлов.
— Тебе — также.
— Да, это чертовски трудная опера. Невероятная инструментовка. И эта непрерывная изменчивая мелодия.
— Ты уже воображаешь себя за дирижерским пультом, — сказала Козима.
— Да, — ответил он просто. — По всей вероятности, я и буду дирижировать на премьере, если она состоится.
— Я часто спрашиваю себя, — вновь начала Козима, — для чего существует искусство?
— Как это?
— Ну да, зачем? Для чего?
— Не «для чего», а «почему»! Это насущная потребность человечества.
«Сказал и успокоился», — подумала Козима.
— Странный вопрос в устах женщины, которая выросла в артистической семье, — с некоторым опозданием заметил Бюлов.
— У отпрысков таких семейств чаще всего возникают сомнения.
— Искусство помогает нам лучше разобраться в жизни… так же как и наука, только иным, своим способом.
Ответ Бюлова немного противоречил его прежним словам, и это указывало, что он совсем не «успокоился», а хотел помочь Козиме в ее сомнениях.
1866 год
Изгнанник без родины, без надежды увидеть на сцене свои оперы, разочаровавшийся в людях, полунищий скиталец — таким был Вагнер в начале шестидесятых годов. Единственным просветом оказалась поездка в Россию. Симфонии Бетховена и девять симфонических отрывков из вагнеровских спер были встречены по достоинству. Гастроли в России избавили его от нужды. Но ненадолго. Кредиторы вновь стали преследовать Вагнера, и ему пришлось, как всегда, скрываться.
В день своего пятидесятилетия он с отчаянием обнаружил, что до сих пор остается «неопределенным человеком», без дома, без положения. Таков он в глазах света. «Тристан» и все «Кольцо Нибелунга», написанные во время изгнания, ровно ничего не значили для общества. Мало ли что иной чудак пишет в своем уединении? Каково бы ни было значение этих опер, как бы ни ожидать появления мецената, который «поймет» его музыку, в настоящем он пожилой человек, который ничего не имеет. Скоро ему придется прибегнуть к помощи ростовщиков, а затем, может быть, и пустить себе пулю в лоб, потому что при этом унизительном, чудовищном положении он не сможет написать ни одной ноты. Для чего и жить тогда?
И как ужасна его судьба, что даже преданные ему друзья не могут облегчить ее без риска навлечь на себя гонения. И Лист и Бюлов пошли бы на этот риск, да ему-то этим не поможешь. Он все еще политический изгнанник, хотя уже тринадцать лет прошло. Но еще больше мешает новизна и необычность его музыки. И врагов у него больше, чем друзей. Даже в Россию, где его так хорошо принимали, не удалось приехать во второй раз: тамошние власти знали, кто он, и запретили приглашать его.
И вдруг стремительный поворот в судьбе. Появился долго ожидаемый меценат, и не просто меценат, а сам король Людвиг Баварский. Ребенком он слушал в Веймаре «Лоэнгрина» и тогда же поклялся: как только станет королем, разыщет этого композитора и возвеличит его. И вот разыскал. Вагнер — в Мюнхене, столице Баварии. Король Людвиг осыпал его милостями. Принят к постановке «Тристан». Нужда кончилась, можно не думать о будущем.
В Мюнхене жили друзья. Ганс Бюлов был главным дирижером оперы. Все резко изменилось, как в сказке.
Нет, не так уж внезапно, «милостью божьей», все это произошло. Скорее — «милостью Листа». Потому что Лист поставил «Лоэнгрина» в Веймаре. Потому что Лист пропагандировал его музыку везде, всюду. «Без Листа ты пропал бы, — говорил себе Вагнер. — Без Листа с его великодушным сердцем и энергией, без его доброй воли ты не выбрался бы на дорогу. Он дал приют тебе, изгнаннику, он утешал и поддерживал тебя, когда ты отчаялся, он позаботился о том, чтобы твоя музыка звучала, когда ты должен был скрываться. И от нужды он не раз спасал тебя. Ты забываешь иногда об этом, но ты не смеешь забывать».
В шестьдесят пятом году был наконец-то поставлен «Тристан». Критики ничего не поняли, половина публики — также. Но другая половина, по крайней мере, слушала со вниманием. Среди этой половины нашлись люди, которые с этого дня сделались вернейшими почитателями Вагнера. Не так уж плохо.
Оркестр был большой и слаженный. Дирижировал Ганс Бюлов. Тристана пел великолепный певец Шнорр. Пожалуй, Тихачек был бы староват для этой роли.
И все же каким непрочным оказалось мюнхенское благополучие! Правда, Людвиг Баварский не оставил Вагнера. Но пришлось бежать и из Мюнхена. Снова бежать! И еще несколько лет страдать от чужой ненависти.
В Мюнхене у Вагнера появились враги. Значение баварского короля было совсем невелико. Сам Людвиг, еще юноша по летам, то слишком легковерный, то не в меру подозрительный, не сумел поставить себя в должные отношения с придворными и министрами. Когорта мюнхенских музыкантов ни с того ни с сего ревностно занялась политикой, обратив свою деятельность против Вагнера. В его реформе они усмотрели опасность для общества. В конце концов король Людвиг, растерявшийся и павший духом из-за этой обдуманной, умело организованной травли, предложил Вагнеру на время покинуть город. Он даже плакал, сообщая об этом Вагнеру, и клялся, что никогда не бросит его в беде.
Весь мюнхенский период вспоминался как дурной сон. Да и сам Людвиг… Конечно, неблагодарность плохое свойство, а все же есть что-то унизительное в этом покровительстве «высокой» особы. Вагнер тяготился привязанностью короля. Чем сильнее такой покровитель любит тебя, тем это неприятнее, тяжелее. Потому что он дает тебе деньги, а без этого не нужен тебе. Ах, это ужасно! Писать письма, уверять в преданности! Пусть даже ты и уважаешь его, все-таки сознание зависимости помешает тебе разглядеть достоинства покровителя. Нет, тут что-то нехорошо: он имеет права на тебя, он тебя купил!
И кто сказал, что только в любви денежные отношения унизительны? Не менее унизительны они и в дружбе, если они односторонни. Разве дружба покупается? Вечно думать о том, что ты обязан другому, что должен отвечать взаимностью, что неблагодарность — это грех. А вот иногда хочется быть неблагодарным, просто подмывает! Я хочу свободы. Опомнись, разве она бывает на свете? Разве ты был свободен, когда умирал с голоду?
Вагнеру приходилось и раньше пользоваться чужой денежной помощью. Но друзья ничего не требовали в обмен за это. А когда он не поладил с ними, то отказался от их денег. Но внимание этого экзальтированного короля, его голубые глаза, полные вечной меланхолии и невысказанного упрека, его клятвы в вечной дружбе и требования таких же клятв от «друга», который старше более чем на тридцать лет! Эта необходимость поддерживать всегда «возвышенное» настроение… И как трудно вести себя с королем так, будто видишь в нем знатока музыки и красоты. А он совсем не знаток и любит музыку как-то взахлеб, глухо…