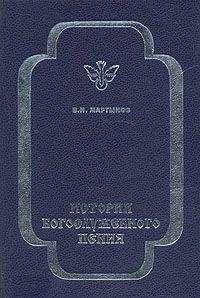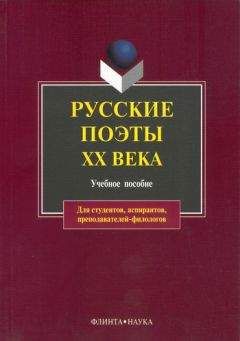Наряду с ипофонным пением ранняя христианская церковь широко применяла антифонное пение, также глубоко коренящееся в ветхозаветной певческой традиции. В письме Плиния Младшего (106) к Трояну говорится, что «в некоторые дни христиане собираются перед восходом солнца и попеременно (то есть антифонно) приносят Богу хвалебные гимны». Это письмо совпадает по времени с жизнью и деятельностью святителя Игнатия Богоносца (49–107) и косвенно подтверждает свидетельство историка Сократа о том, что именно этот апостольский муж ввел антифонное пение в Антиохийской церкви, а отсюда, как из главного источника, оно распространилось и по всей христианской церкви. Однако это свидетельство подтверждает только тот факт, что до времени епископства святителя Игнатия Богоносца (75) антифонное пение, будучи хорошо известным христианам, не было употребляемо ими только вследствие того, что христианское богослужение совершалось в глубокой тайне, негласно и возможно скромно, в то время как антифонное пение требует известной торжественности и приподнятости. Помимо ипофонного и антифонного принципов пения древняя христианская церковь знала также и принцип симфонного (или согласного) пения. Именно так святыми апостолами было определено трижды пропевать молитву Господню «Отче наш», и может быть, именно этот принцип пения в наибольшей степени воплощает стремление всего соборного православного пения, выраженного в словах: «едиными усты, единым сердцем». Все три принципа древнего христианского пения — ипофонный, антифонный и симфонный, как наиболее благолепные, слышатся совместно и ныне в православном богослужении на светлой седмице по указанию устава: «И начинает предстоятель канон, творение господина Иоанна Дамаскина. И паки последи кийждо лик поет ирмос. Последи же на сходе (то есть оба лика вкупе) катавасия, ирмос той же: Воскресения день; по нем Христос воскресе трижды» (Ирмологий). Это является свидетельством того, что ничто истинно ценное не может быть изъято из опыта Православной Церкви и что все духовно значимое навечно сохраняется в памяти ее.
Помимо различения принципов пения, раннехристианская богослужебная практика различала также и типы отдельных песнопений. Так, святитель Григорий Нисский пишет: «Псалом есть мелодия, требующая музыкального инструмента; песнь есть напев человеческих уст, при котором звучат членораздельные слова. Гимн есть воздаваемое Богу благословение за дарованные нам блага» [71, с.111–112]. В этих словах не только дается некая классификация песнопений, но также намечается и их иерархия, более четко выраженная святителем Иоанном Златоустом: «В псалмах сосредоточено все человеческое, в гимнах же нет ничего человеческого. Потому сначала наставь ребенка в псалмах, а уж тогда пусть он поет гимны, ибо последние более божественны. Силы небесные воспевают гимны, а не псалмы» [71, с.115]. Эти слова свидетельствуют о стремлении к созданию развитой и продуманной структуры богослужения, сопровождаемого строго определенным мелодическим чином, однако реализация этого стремления не могла быть достигнута на данном историческом этапе, на котором накладывались лишь основы мелодической системы.
Ошибочно было бы понимать становление новозаветного богослужебного пения только как процесс механического собирания и объединения различных принципов и родов пе'ния, как простую эксплуатацию уже существующих традиций, ибо становление это представляло собою прежде всего жесткий отбор и отсев мелодических средств, осуществляемый на основе тщательного рассмотрения их духовно-этической природы с позиций новой христианской жизни. «Изнеженные напевы и плаксивые ритмы, эти хитрые зелья карийской музы, развращают нравы, своим разнузданным и коварным искусством незаметно, вовлекая душу в разгул космоса (народного гулянья с пением)» [71, с.98],— пишет Климент Александрийский, один из первых учителей Церкви, подробно занявшийся вопросом взаимовлияния пения и жизни. Именно от него берет свое начало святоотеческое учение о богослужебном пении как о единстве пения и жизни, сформулированное в положении: правильное пение есть следствие праведной жизни, и праведная жизнь есть условие правильного пения. Таким образом, возникает положение, согласно которому праведная жизнь уже есть пение. Святитель Григорий Нисский так раскрывает эту мысль: «Бог повелевает, чтобы твоя жизнь была псалмом, который слагался бы не из земных звуков (звуками я именую помышления), но получал бы сверху, из небесных высот, свое чистое и внятное звучание. Слушатели этого псалма суть в иносказании те, кому ты подаешь пример достойной жизни» [71, с.11О]. Ведь исполняя новую заповедь, человек уподабливается ангелам, а поскольку пение есть неотъемлемая часть ангельской природы, то и жизнь праведного человека становится пением.
Такое понимание пения рождает учение о человеке как об инструменте Духа Святого. «Станем же флейтой, станем кифарой Святаго Духа. Подготовим себя для Него, как настраивают музыкальные инструменты. Пусть Он коснется плектром наших душ!» [71, с.116] ,— пишет святитель Иоанн Златоуст. Различные части человеческого тела уподабливаются частям музыкального инструмента: «Щеки, язык и устройство гортани — все это похоже на струны, по которым движется плектр, настраивая их высоту сообразно надобности. Губы, сжимаясь и разжимаясь, производят то же самое, что и пальцы, бегающие по отверстиям флейты» [71, с.111],— пишет святитель Григорий Нисский. Развивая эту музыкальную антропологию, святитель Василий Великий как бы продолжает предыдущую мысль: «Под псалтерионом — инструментом, построенным для гимнов нашему Богу,— должно иносказательно разуметь строение нашего тела, а под псалмом следует понимать действие тела под упорядочивающим руководством разума» [71, с.104]. Отсюда вытекают и практические выводы: «Музыка есть не что иное, как призыв к более возвышенному образу жизни, наставляющий тех, кто предан добродетели, не допускать в своих нравах ничего немузыкального, нестройного, несозвучного, не натягивать струн сверх должного, чтобы они не порвались от ненужного напряжения, но также и не ослаблять их в нарушающих меру удовольствиях: ведь если душа расслаблена подобными состояниями, она становится глухой и теряет благозвучность. Вообще музыка наставляет натягивать и отпускать струны в должное время, наблюдая за тем, чтобы наш образ жизни неуклонно сохранял правильную мелодию и ритм, избегая как чрезмерной распущенности, так и излишней напряженности» [71, с.109]. Эти слова святителя Григория Нисского, являющиеся ключевыми в понимании святоотеческой музыкальной антропологии, отражают высшее развитие, очищение и преображение античного учения об этосе, а также полагают основание нового, чисто православного понимания богослужебного пения.
Практическое воплощение этого учения заключается в понимании церковного устава не только как устава и чина христианской жизни, но и как некоего духовного «звукоряда», или чина пения, ибо если музыкальный закон, будучи законом телесным, воплощается в материальном звукоряде, в звуковысотной лест-вице, то богослужебное пение, будучи духовным, и закон имеет внутренний и духовный, воплощающийся в следовании души определенному духовному порядку, а лучше сказать, в порядке восхождения души по некоей таинственной лествице к Богу. Вот почему дальнейшая история богослужебного пения неразрывно связана со становлением церковного устава и с конкретной историей Типикона как книги, организующей внутреннюю и внешнюю жизнь христианина, истории, восходящей ко временам преподобного Ефимия Великого и святого исповедника Ха-ритона. Если же учесть, что Типикон есть порождение аскетического подвига, то именно здесь и можно усмотреть завязку узла трисоставности богослужебного пения.
Таким образом, к концу первого периода своего исторического развития богослужебное пение христианской Церкви представляло собой уже достаточно многоплановое явление, включающее в себя, во-первых; дифференцированную практику с различными принципами пения и типами песнопений; во-вторых, зачатки системы, управляющей этими принципами и типами пения, организующей их в единую структуру и заключающейся в постепенно формирующемся церковном уставе; в-третьих, учение о богослужебном пении с концепцией человека, понимаемого как инструмент Духа Святого, и с вытекающей из этого понимания «музыкальной антропологией». Правда, здесь следует оговориться, что вся сложность и многоплановость богослужебного пения находились еще в некоем свернутом, потенциальном состоянии, ибо постоянные ожесточенные гонения на христиан и их катакомбное, внезаконное положение не давали возможности полноценного воплощения всего этого в конкретные зримые формы. Однако эта «нераскрытость» явления не дает права отрицать существование самого явления. Подобно тому как в зерне заключено все растение со всеми его развитыми формами, так и в этом «нераскрытом» сокровенном состоянии христианского богослужебного пения трех первых веков уже было заключено и существовало все великое древо православного пения. Нужны были лишь условия для скорейшего его произрастания и именно возникновение этих условий — свершение конкретных исторических событий послужили границей, заканчивающей первый сокровенный период истории богослужебного пения и начинающей его второй, явленный миру период.