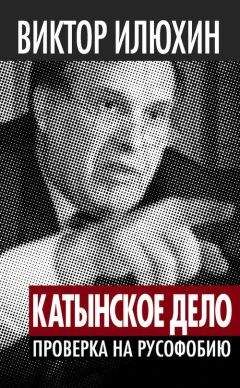Не будем торопиться с выводами — обратим пока внимание на то, что о сердце первым заговорил отнюдь не он, а В. К. Тредиаковский: его Лиска, получив сыр, насмешливо резюмирует:
Всем ты добр, мой Ворон; только ты без сердца мех.
В. Н. Капленко справедливо считает, что «современному рядовому читателю… вовсе непонятно» выражение без сердца мех, означающее ‘шкурка без сердцевины, чучело’[11]. Думаю, однако, суждение современного исследователя требует уточнения. Дело в том, что «Словарь Академии Российской» (далее — САР4) содержит любопытное и уж точно неизвестное современному читателю значение существительного сердце — ‘мысль, помышление’[12] (соответственно и прилагательное безсердечный — ‘глупый’[13]). Таким образом, Тредиаковский имеет в виду глупость, незадачливость Ворона, попавшегося на удочку хитрой Лисицы. Собственно, первый перелагатель античного сюжета на русский язык шел вослед Эзопу и его публикаторам-переписчикам, сопровождавших текст басни примечанием: «Басня уместна против человека неразумного». Именно неразумность Ворона высмеивают — кто напрямую, как, скажем, Федр, Игнатий Диакон, Лафонтен и Херасков, а кто намеком, обиняком (Сумароков, Хвостов) — и другие предшественники Крылова[14]. Кажется, именно в этом ключе рассуждал и В. И. Водовозов: «…вся вина <Вороны> состоит в одной ее глупости», — а вслед за ним и Л. С. Выготский: «…ворона <…> изображена такой глупой, что у читателя создается впечатление совершенно обратное тому, которое подготовила мораль»[15].
Но глупость, как известно, — не порок, а свойство, ее невозможно ни исправить, ни излечить, и в силу этого она сама по себе уже наказание[16] — что ж усугублять страдания убогого существа, издеваясь над ним и выставляя на всеобщее посмеяние! Не по-людски как-то: Ворону пожалеть бы, а мошенницу — к позорному столбу… Но — не получается! Потому что интуитивно мы понимаем, что крыловская Ворона наказана вовсе не за природную глупость — недаром же плачевный (для нее) финал в известном смысле можно квалифицировать как «горе от ума», то, что выражено пословицей «на всякого мудреца довольно простоты»: дураки не думают и именно этим отличаются от тех, кто разумом наделен, — наша же героиня позадумаласъ и… проворонила свой завтрак! Оказывается, крыловская Ворона — «с сердцем мех» во всех значениях слова сердце, т. е. не лишена ни чувствительности (на бесчувственную тварь никакая лесть не подействует!), ни ума. Во всяком случае Крылов не торопится, а точнее, не склонен обвинять свою героиню в глупости.
«На фоне естественных действий Вороны, ее желания позавтракать внутреннее действие призадумалась (sic!) выглядит комично, нелепо, — замечает в связи с этим В. Н. Капленко. — Содержание ее „дум“ неизвестно и, должно быть, не стоит внимания» (курсив авт. — А. К)[17]. На мой взгляд, это заключение страдает излишней категоричностью, а потому едва ли может быть признано справедливым. В первую очередь замечу, что собраться вовсе не значит желать. Комичным и нелепым поведение героини выглядит в первую очередь потому, что завтрак требует целого ряда подготовительных «мероприятий»: для начала надо взгромоздиться на ель, затем собраться (вознамериться) позавтракать. Крылов, как сейчас сказали бы, дает эту картину в «режиме реального времени»:
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать-было совсем уж собралась…
«Задумчивость» героини оказывается совершенно неожиданным результатом этих предварительных — и очень немалых! — усилий. Для читателя. А вот Крылов, кажется, именно к этому и вел: образ позадумавшейся вороны — гениальная находка великого баснописца. Только у него мы находим эту характеристическую деталь, в силу которой его героиня на фоне предшественниц выглядит, прошу прощения за каламбур, белой вороной. Конечно же, уже сам вид впавшей в задумчивость Вороны не может не вызвать смеха[18], однако достижение чисто внешнего комического эффекта — мелковатая задача для поэта такого уровня, как Крылов. Смею утверждать, что содержание дум осчастливленной Вороны не только стоит пристального внимания, но и имеет исключительно важное значение для понимания смысла басни.
Мыслями, посетившими вещуньину голову в столь, как оказалось, неподходящий момент, мы займемся немного погодя — определив, как Ворона стала счастливым обладателем кусочка сыра, ибо причина ее неожиданной задумчивости, как кажется, каким-то образом связана с даром небес. Предшественники Крылова выставляли своих падких на лесть разинь нечистыми на руку (виноват, лапу, точнее — клюв):
Однажды ворон своровал с окошка сыр…[19]
(Федр, I в. н. э.)
Негде ворону унесть сыра часть случилось…
(В. К. Тредиаковский, 1752)
Ворона негде сыр украла
И с ним везде летала…
(М. М. Херасков, 1764)
И птицы держатся людского ремесла.
Ворона сыру кус когда-то унесла…
(А. П. Сумароков, 1781)
Однажды после пира
Ворона унесла остаток малый сыра,
С добычею в губах не медля на кусток
Ореховый присела.
(Д. И. Хвостов, 1802)
«Сумароков <…> удачно заменяет Ворона вороной, тем самым существенно меняя сам регистр притчевого рассказа: по Эзопу, хитрая лиса обманула мудрого ворона — по Сумарокову, — разиню-ворону, — пишет в связи с этим С. А. Фомичев. — Так подготавливается гениальная крыловская строка <…>: „Вороне где-то Бог послал кусочек сыру…“ Здесь — бездна пространства. В самом деле, Вороне <…> оказал помощь… сам Бог, но сколь ничтожен Божий дар — всего кусочек сыра. „Чем Бог послал“, — обычно говорит хозяин, угощая гостя. Но у Крылова здесь вполне очевидный иронический парафраз: каждому же ясно, что Ворона где-то сыр украла[20] <следуют ссылки на тексты Тредиаковского и Сумарокова. — А. К.>. Так подготавливается изначально неожиданный, но закономерный финал басни: вор (плутовка) у вора (разини) украл» (курсив авт. — А. К.)[21].
Боюсь, у Крылова дело обстоит несколько иначе. Для начала отмечу, что в это построение, видимо, вкралась хронологическая неточность. Пальму первенства в деле обращения Ворона в Ворону принадлежит скорее всего М. М. Хераскову: его «Ворона и Лисица» была опубликована в 1756 г.[22]. Впрочем, это не меняет сути дела: если Ворона «ускромила» кусочек сыру, то и поделом ей. Но тогда мораль в том виде, в каком ее дал Крылов, тем более не нужна — точнее, звучать она должна была бы примерно так: уж сколько раз твердили миру, что воровать — грех и на хитрого вора всегда найдется еще более хитрый. Или так: умеешь воровать — умей ворованное удержать, бди, ибо есть и вороватее тебя, а вообще в мире вор на воре и вором погоняет… Твердить такому миру какие-то истины и впрямь бесполезно, все будет не впрок — «есть от чего в отчаянье прийти»!..
Кроме того, поговорке «вор у вора дубинку украл» в значительно большей степени соответствует другая басня Крылова — «Купец» (1830), которую завершает такая мораль:
Почти у всех во всем один расчет:
Кого кто лучше проведет,
И кто кого хитрей обманет.
Тем не менее, определенное типологическое (и даже лексическое) сходство «Купца» и «Вороны и Лисицы» действительно существует — в своем месте мы обсудим этот вопрос подробнее.
Вернемся к рассуждениям С. А. Фомичева. В них нельзя не заметить неувязки, а именно определения финала басни как «изначально неожиданного». Что неожиданного в том, о чем совершенно недвусмысленно твердили буквально все предшественники Крылова[23]? Чем же в таком случае великий баснописец от них отличается? Неужели только «жучками в епанечках»? Напомню, что последние, по объяснению Г. Р. Державина, есть «посредственные мысли, хорошо сказанные, чистым слогом», и тем самым «делают красоту сочинения»[24]. Короче говоря, неужели поэт, внуком которого ощущает себя многомиллионный народ, отличен от прочих виршеписцев лишь своим слогом? Спору нет, неповторимость стиля, так сказать, свой голос — уже немало, и без «лица необщего выраженья» истинный художник непредставим. И все же нельзя забывать, что «свой голос» имеет и Ворона. А вот со своей неповторимой, «непосредственной» мыслью у нее незадача. Думаю, стоит прислушаться к безусловно справедливой оценке С. А. Фомичева зачина крыловской басни и без предвзятости постараться вникнуть в «бездну пространства» (Н. В. Гоголь) ее смысла.