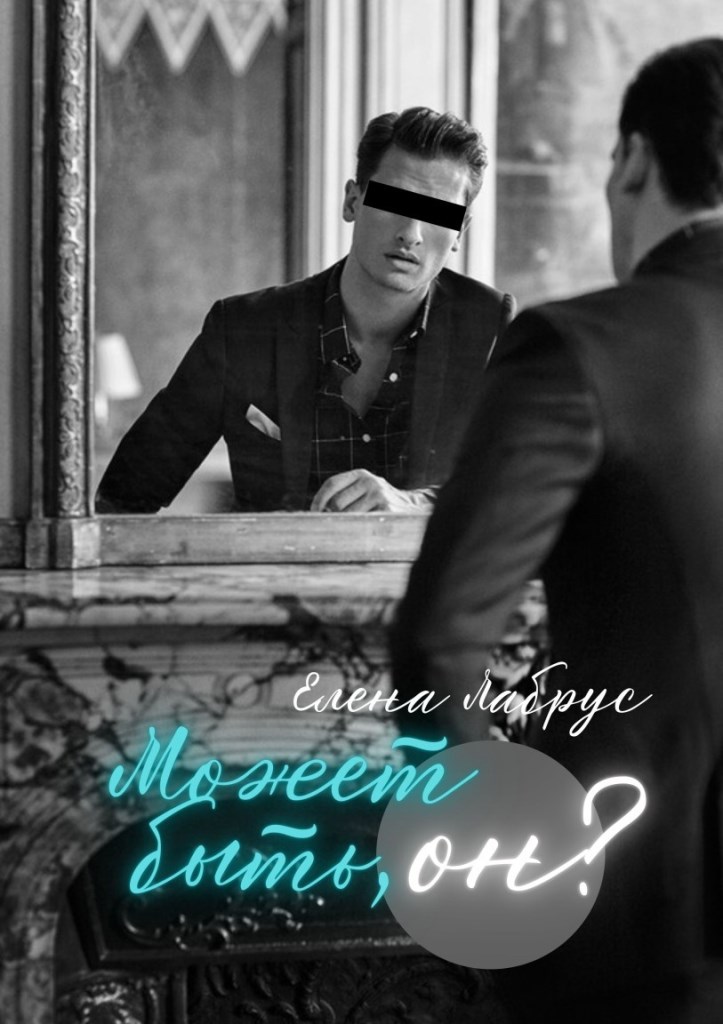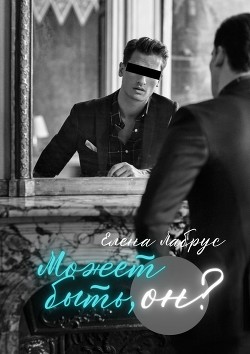class="p1">— Ну вот и славно, — оценил он то, что видел, и расстегнул брюки.
Равнодушно. Холодно. Безучастно.
Словно наказывая меня за вспышку своей откровенности. За то, что неожиданно доверился, рассказал о матери, о себе.
За то, что предложил замуж. Предложил, и лишь потом приказал.
Он неторопливо снял рубашку. Повесил на спинку кровати брюки. Снял через голову белую майку. Словно раздевался на медосмотре, безразлично стянул и отложил в сторону трусы.
Я потянулась расстегнуть платье, но он остановил мою руку.
— Я сам.
Прижав к себе лицом, потянул вниз молнию на спине. Глядя в глаза, взялся руками за рукава.
Я вздрогнула, когда он рывком сорвал платье с плеч.
Дальше оно упало само, накрыв босые ноги. В красном платье, босая, на холодном полу… я сама себе напоминала Эсмеральду.
— Trois cœurs d'homme faits différemment… — сказала я.
— Что? — скривился Урод.
— Три мужских сердца, созданных различно. Восьмая глава. Нотр-Дам де Пари. Гюго.
Урод посмотрел так, словно видел меня в первый раз.
А потом улыбнулся, довольно, словно я упакованный для него подарок.
И начал снимать упаковку. Медленно, не торопясь, предвкушая.
Опустил лямки бюстгальтера, обнажил одну, потом другую грудь. Слегка обнял, чтобы расстегнуть кружево, и его твёрдый член ткнулся мне в живот. Твёрдый и влажный.
— Будет больно, — сказал он, стягивая с меня трусики. — Но вижу, ты готова, — предъявил он мне на пальцах влагу, проведя между моих ног. — Ложись, — кивнул он на кровать.
Я легла.
— Согни ноги, — отдавал он команды.
Я согнула.
Он лёг сверху. Опёрся на руки. Ткнулся головкой члена, куда раньше избегал упираться.
— Смотри на меня. Не отводи глаза, — приказал он.
И резко одним движением вошёл.
Я вскрикнула, попыталась из-под него вывернуться, но он навалился сверху и стал двигаться.
— Я сказал смотри на меня, — прижал он мой лоб своим, припечатав к кровати, и заставил смотреть в глаза.
Его ожесточённое покрасневшее лицо было так близко, что я видела вздувшиеся вены, видела проступивший на лбу пот, видела обострившиеся от напряжения скулы и стиснутые зубы. Слышала резкие выдохи, с которыми он в меня входил. Чувствовала запах его кожи. И как болезненно ныл низ живота — тоже чувствовала. Ныл от затопившей его боли, от раздиравшего изнутри давления. Но ныл и от желания, что независимо от моей воли росло, разгоралось нестерпимым огнём и вдруг словно лопнуло и разлилось, накрыло горячей волной.
Я вздрогнула, впилась в спину Урода ногтями, подтягивая к себе, выгибаясь ему навстречу. Урод блаженно застонал. Несколько раз дёрнулся. И обессиленно ткнулся лицом в мою в шею.
— Ну вот и всё, — выдохнул он.
Блаженно вздохнул, словно собрался на мне заснуть. Но он не собирался.
Встал. Закурил. Прошёлся по камере.
Всё это я только слышала. Отвернув голову к стене и не шевелясь, я так и лежала с раздвинутыми ногами, на окровавленной постели и смотрела на узор потрескавшейся краски.
Он так хотел запомнить этот момент, смотреть в мои глаза, видеть расширенные от страха, боли и вожделения зрачки, слышать крик, шёпот, стон, пережить это как событие, откровение.
Но всё, что чувствовала я — опустошение.
А потом мне и вовсе стало смешно. Наверное, от таблетки.
— Ты зря смеёшься, девочка, — наклонился он и приподнял моё лицо за подбородок. — Я только начал.
И он сдержал своё обещание.
Он брал меня на столе, ставил на колени, трахал прижав спиной к стене.
Он словно обезумел, глаза у него горели, член стоял и силы не заканчивались.
Наверное, не будь во мне таблетки, мне пришлось бы совсем туго. Но я просто выполняла его команды и ничего не чувствовала.
Он ушёл, когда забрезжило утро.
Может, он ждал, что я заплачу, буду умолять его остановиться, уговаривать прекратить. Но я смотрела в его ледяные глаза, которые так и не потеплели, и в голове у меня была только детская считалочка:
— Ан. Де. Труа…
Раз, два, три… Я иду в лес…
Четыре пять шесть… Собирать вишни.
Семь, восемь, девять… В мою новую корзину.
Десять, одиннадцать, двенадцать… Все они будут красными.
Ан. Де. Труа…
Когда утром принесли завтрак, я сидела на лавке, кутаясь в одеяло и меня трясло: всё тело невыносимо болело, и холод словно пробирал до костей.
На верёвке сохла постиранная простынь. Её надо было постирать — и я постирала.
И, наверное, надо было поесть, но я не могла. Не могла даже встать. Не могла согреться.
И не могла поднять на него глаза.
— Сверчок?
Я мотнула головой. Это значило: уходи.
Уходи, чёрт побери! Сейчас, насовсем и никогда не возвращайся.
Я принадлежу Уроду. Я буду его женой. И всё, что дорого мне, он рано или поздно уничтожит. Осквернит. Использует, чтобы причинить мне боль.
— Уходи, Захар, — отвернулась я.
— Я могу тебе чем-нибудь помочь? — спросил он. В голосе звенела тревога.
— У тебя есть ещё? — равнодушно спросила я. Он понял о чём.
— Есть. Но тебе больше нельзя, — ответил он непреклонно.
— Тогда нет. Ты ничем не можешь мне помочь.
Я ждала, когда наконец закроется «кормушка». Но он не уходил. Так и стоял.
— Возьми хотя бы кашу.
Я покачала головой, стянув покрепче края одеяла на груди.
— Она горячая.
Я ответила также: отрицательным движением головы.
— Ты заболела? Тебе нужен врач? Я могу позвать врача, — не унимался он.
— Со мной всё в порядке, Захар, — повернулась я.
Его серые колдовские глаза смотрели озабоченно. И в них было столько участия и столько боли, что я пожалела, что на него посмотрела. Не выдержала и заплакала.
— Малыш, — протянул он руку. Сильную, мужскую, надёжную. — Иди сюда.
Господи! Зачем?! Зачем я ему… такая? Грязная. Использованная. Чужая.
— Настя, — выдохнул он.