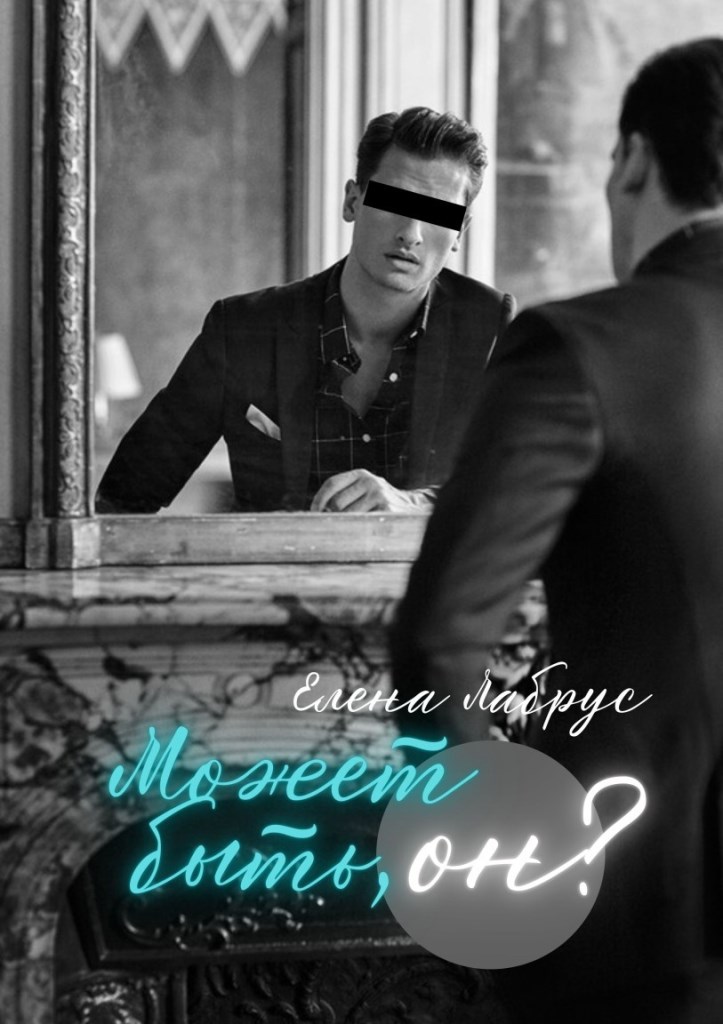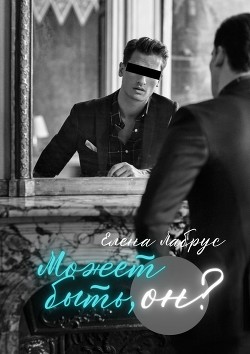я должна была понять? — выдохнула я. — Всё, что хотел, ты получил. Всё, чего добивался. Так ради чего это? — оттолкнула я бумаги о браке. — Если не ради квартиры?
Он молчал, сверля меня глазами. А потом вдруг сказал:
— Собирайся и уходи.
Я словно с разбега налетела на каменную стену.
— Что?
— Мне не нужна твоя квартира. Мне вообще ничего больше не нужно. Уходи.
— Как? — замерла я, не понимая.
— Ногами.
— Но как же суд, следствие, обвинение?
Он скривился.
— Какое? Всё это было подстроено, Блондиночка. Менты, собаки, наркотики. Нет никакого обвинения. Убирайся!
Я замерла как парализованная, не веря ни своим ушам, ни своим глазам, а потом меня словно включили: я схватила со стола паспорт, схватила кофту и рванула к двери.
— Стой, — сказал мне вслед Урод, — я провожу, а то тебя не выпустят.
Всё так же молча довёл меня до проходной под равнодушными взглядами охраны. И уже за воротами вручил ключи от моей квартиры.
— Но почему? — совершенно сбитая с толку, ошарашенная, ничего не понимающая, не верящая в происходящее, задала я единственный вопрос, что крутился в голове.
— Потому что ты моя. Хочешь ты этого или нет — моя. Навсегда.
Засунув руки в карманы, он кивнул, показывая куда идти.
И я пошла, сначала пятясь от него спиной, а потом побежала. Побежала что есть силы — прочь, от тюрьмы, от него, от прошлого. И всё, о чем думала, пока добиралась до дома по весенним зелёным улицам, радуясь слепящим огням витрин, проезжающим машинам и улыбаясь прохожим:
«Чёрта с два! Я не твоя, Урод! Я своя собственная. И это моя жизнь! Моя!»
Мне казалось, я провела в тюрьме вечность. Всё пропустила. Везде опоздала.
Но оказалось вышла как раз к заседанию суда — в двери меня ждала повестка.
И уже дома, включив телевизор и сверясь с календарём, поняла, что пропустила всего один, первый экзамен. Если я сдам остальные, то смогу пересдать его в конце. И даже поступить в институт, если справлюсь, конечно.
— А я обязательно справлюсь. Теперь обязательно, — обещала я адвокату, прижимая к груди полученные бумаги и обнимая её на прощание.
Мир был прекрасен. Этот добрый светлый мир, в котором я могу делать что хочу.
— А что случилось со старушкой? — спросила я, пока мы шли: я к остановке, адвокат — к своей машине.
— Вопросы к её смерти, конечно, есть. И родственники настаивают на расследовании. Но нас это уже не касается. Пересмотра дела не будет. А вообще, у неё был диабет. Случился приступ, резко поднялся сахар в крови, а лекарства, наверное, под рукой не оказалось, — объяснила адвокат.
— Гипергликемическая кома? — не задумываясь, поставила я диагноз.
— Да, она умерла, не приходя в сознание, — подтвердила женщина.
— Я помню, у неё всегда были с собой конфеты для диабетиков, она меня угощала, — кивнула я. И не стала врать, что мне жаль.
Где-то в глубине души я не хотела ей зла. Но в свете происходящих событий, раз мне повезло, я не стала прикидываться альтруисткой, я была рада и благодарна, что всё сложилось именно так.
Именно в тот момент я поняла куда буду поступать.
И в тот же день поехала к Оксанке: узнать и сообщить последние новости, и за своими вещами.
— И тебе ещё хватило наглости явиться? — открыла мне дверь тёть Марина.
Не накрашенная. Заплаканная. Она обожгла меня ненавидящим взглядом и так хлопнула дверью в кухню, что задрожали стёкла.
— Я сделала что-то не так? — растерялась я.
Оксанка, скрестив руки на груди, смотрела на меня так же — зло, обиженно:
— Ты ещё спрашиваешь?
— Если бы я понимала, наверное, не задавала бы глупых вопросов.
— Оболенский бросил мать.
— А я тут при чём? — развела я руками и пошла в комнату, где остались мои вещи.
— Вот только не прикидывайся наивной дурочкой, — догнала она меня. — Он бросил её ради тебя. И знаешь, что это значит?
— Что? — швыряла я в сумку свои вещи, туда же запихивала тетради, учебники, ноутбук.
— Что теперь моему брату пиздец. Пока за ним присматривал Оболенский, ему ничего не грозило. А теперь, — она взмахнула руками. — Его там выебут и будут бить и издеваться каждый день. А потом отправят по этапу с меткой «петух», и там тоже будут унижать, насиловать и издеваться.
«А я тут причём?! — хотела выкрикнуть я. — Я посадила твоего брата в тюрьму? Я виновата, что он торговал наркотой и его поймали? Я…» — слова застряли у меня в горле.
— Как зовут твоего брата? — замерла я.
— Тебе не всё равно? — хмыкнула Оксанка.
— Нет, мне не всё равно, — разогнулась я.
— Что, пойдёшь к Оболенскому за него просить? — хмыкнула Оксанка и замерла, словно ждала моего решения.
— Вряд ли Оболенский меня послушается.
— Тебя послушается. Насть, пожалуйста, — вдруг схватила она меня за руку. — Поговори с ним. Убеди. Попроси.
— И что пообещать? — убрала я с себя её руки. — Что выйду за него замуж? И пусть бьёт, насилует и унижает меня?
— Тебя он не тронет.
Я горько усмехнулась.
— Как зовут твоего брата? — спросила я и задержала дыхание, боясь ответа.
— Алексей. Алексей Каверин. У нас разные отцы, — ответила Оксанка.
Я выдохнула.
— Нет, — и покачала головой. — Прости, но нет.
Взвалила на плечо сумку. Молча обулась и ушла.
Наверное, у меня никогда и не было подруги. Но я заплатила за это знание слишком дорого, чтобы и дальше позволить собой манипулировать. Чтобы и дальше жертвовать собой ради людей, которые мной пользуются. Я не могу отвечать за других — только за себя.
А мне надо готовиться