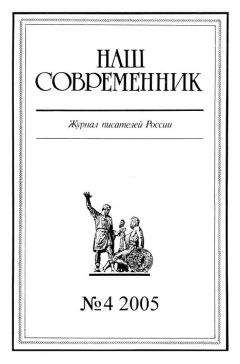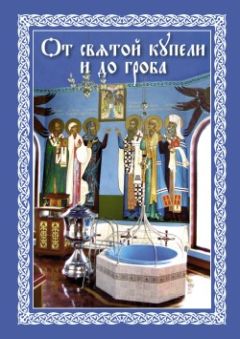2
На Кавказ до черноморской здравницы пришлось добираться на перекладных — через Москву.
Столица затянула Марину в многоликую и бесцветную людскую сутолоку, поразила потоками машин, забрызганных грязной весенней сырью, опахнула чужестью своего мироустройства. «Тут тебе не Никольск! Растопчут и не заметят…» — с опаской вертела по сторонам головой Марина. Блескучесть новых, «буржуинских» фасадов: «У них банки, что ль, на каждом углу?», озверелая пестрота щитовых реклам, зловонная стайка бомжей на Ярославском вокзале — мужиков и баб неопределенных лет, в отрепьях и с синяками на лицах, и у подземного перехода пацаненок-попрошайка, нерусский, смуглолицый, наглый, хватающий за полу плаща и протягивающий свою чумазую ладошку: «Дай на хлеб! Дай на хлеб!»; бледные лица пассажиров в метро: «Почти все люди неприбранные какие-то. Будто у всех волосы немыты»; митинг бутылок на витринах, тряпье, еда повсюду — миражи изобилия и благополучия, гарь и толчея на дорогах… Марина собралась на Красную площадь, где когда-то школьницей фотографировалась на фоне вычурных и благолепных стен и куполов Василия Блаженного. Но на площадь не пускали. Сумной охранник в черном комбинезоне буркнул, глядя в сторону: «Закрыто сегодня!» Марина без почтения посмотрела на Спасскую башню, над которой кружили вороны, и пошла в ГУМ. Иностранное захватничество в торговых секциях и неподступная дороговизна ошеломили ее, словно нечаянно вторглась на территорию чужого пресыщенного государства… Под нескончаемый гул машин она прошлась по Театральной площади, возле заколоченного фанерой фонтана у Большого театра съела мороженое — шоколадный шарик в вафельном стакане. В Третьяковку не поехала, хотя прежде и намечала. Несколько часов она промытарилась на Курском вокзале и с радостью забралась в поезд, лишь тот выкатили под посадку.
Дорожные соседи по купе оставили Марину в Ростове-на-Дону в одиночестве. Да и во всем вагоне попутчиков набиралось наперечет. Один из них был живописно бросок. Немалого росту, пузанистый, с большой лысой головой и с неясного цвета, какой-то серо-коричневой бородой, широкой, но редкой, как драная метелка. Он частенько оглаживал свою голову, проводил рукой ото лба к загривку, приминая попутно хилые пряди волос, висевшие на висках и на затылке, а после вел ладонь от усов вниз, оправляя бороду, которая тут же начинала по-прежнему топорщиться во все стороны. В картинном облике, в крупном лице его угадывалось что-то львиное, породистое: мясистый, чуть приплюснутый нос, большие глаза — нараспашку — и клоунские улыбчивые губы. В пути Марина много раз встречалась с ним в вагонном коридоре, но их первый разговор случился только после станции Туапсе.
— Море! — воскликнула Марина, когда состав, забирая влево, к побережью, выходил на окраину портового города, открывал взгляду синий простор. — Море! — уже скромнее повторила она и стеснительно обернулась на лысо-бородатого «льва», который тоже стоял в коридоре.
Он улыбнулся ей, подошел, спросил покровительственным тоном:
— Никак впервые, дитя мое?
Марина возразительно хмыкнула: «Ишь ты, „дитя мое?“», хотела сказать, что у нее уже дочка — школьница. Но подошедший «дядька» выглядел очень приветливо и встречать его в штыки было неуместно.
— Раньше только в кино видела. Еще на картинках. И сама на картинках рисовала. Я когда-то в художественную студию ходила.
Море и впрямь оказалось чарующим и необозримым. Белоснежная курчавина пены играла на гребнях небольших волн, тающих на берегу в прибрежной гальке. Волны так же пенно задирались и разбивались о глыбы волнорезов и бун, о сваи пирсов. Крупные чайки кружили над прибрежьем. Казалось, сколько ни гляди вдаль — не набьет взгляд оскомину от трепещущей синевы.
Колоритного бородача и звали незаурядно; басовито и кругло звучало его имя — Прокоп. Прокоп Иванович Лущин. Оказалось, едут они с Мариной до одной станции; оказалось, Прокопа Ивановича пригласил «молодой начальник из новых русских», у которого дом на побережье, отдохнуть у моря и «покумекать» над новым издательским проектом; оказалось, что у Прокопа Ивановича повсюду «творческие связи».
— В свое время, дитя мое, — с ностальгической нотой рассказывал попутчик, — я работал в крупнейшем советском издательстве. Возглавлял отдел научно-популярной литературы. О! Знали бы вы, какие коньяки мне привозили авторы с Кавказа! А какие бурдюки из Средней Азии! А кумыс, а кальвадос из Молдавии, а рижский бальзам… Но теперь не пью, — он указал рукой на правый бок, в подбрюшье, имея в виду, должно быть, печень, а потом гулко щелкнул под бородой по горлу: — Посадил… Пришлось завязать.
Марина усмехнулась:
— Больше не хочется? — Она попробовала повторить жест попутчика, но звонкого щелчка не получилось.
— Дитя мое, что значит не хочется? Еще как хочется! Да нельзя. Подпал под уговоры своего начальника и принял лечение нарколога. Обильная выпивка, естественно, худо. Но и без вина жизнь уж совсем пресная. «Саперави», «Киндзмараули», «Цинандали». Одни названия таят вдохновение… Живу пока в состоянии стресса. Как осужденный!.. О-о! Уже на сорок минут запаздываем, — взглянул он на часы. — Начальник-то мой не уехал бы. Богатые бедных ждать не любят.
С платформы Марина и ее случайный попутчик вышли на небольшую пристанционную площадь с фонтаном: два изваяния дельфинов купались в струях искрящейся на солнце воды. Марина огляделась и обомлела. От теплоты, от лоснящейся листвы магнолий, от душистых и разлапистых крон каштанов, от толстенных могучих стволов пальм. От гор, которые тянулись ворсисто-зелеными грядами за курортным городком и сливались с синим небом. От чистоты молодой весенней травы на газонах и от свежести пурпурных маргариток в круглых каменных клумбах возле скамеек.
Поблизости, под полосатым солнцезащитным зонтом, устроился шляпный лоток. Марине тут же захотелось купить себе светлую шляпку, легкую, из соломки, у нее никогда такой не было. Она подошла к лотку, стала приглядываться к товару, прицениваться. Упустила на время из поля зрения попутчика.
— Поедемте с нами, дитя мое! — окликнул Прокоп Иванович. — Подбросим. — Он стоял в нескольких метрах от Марины, у раскрытой дверцы такси. Рядом с ним стоял он… тот «новый русский», «начальник». — Прошу любить и жаловать: Роман Васильевич Каретников, — с напыщенной веселостью представил его Прокоп Иванович.
Марине сразу захотелось одернуть на себе плащ, помятый от ремня наплечной сумки, оправить прическу и сделать так, чтобы он не заметил, что туфли у нее старенькие. И сделать еще на себе что-то такое, чтобы выглядеть получше, покраше.
— Давайте вашу сумку, — предложил Каретников.
— Нет, что вы, не надо. Она легкая. Я сама… — Марина не хотела, чтобы он брал сумку в руки: ремни сумки — как засаленные жгуты, сумка повидала виды: и потерта, и в пятнах, которые уже никогда не отмыть.
Забравшись на заднее сиденье, Марина притаилась возле Прокопа Ивановича как мышка, хотя ей очень хотелось, чтобы пассажир на переднем сиденье обернулся к ней и заговорил, перебил многословного редактора.
— Вот ваш санаторий, — остановил машину таксист.
— Уже? — удивилась Марина: езды случилось всего минут на пять.
Она попрощалась с Прокопом Ивановичем и Каретниковым, поблагодарила их и выбралась из машины.
— Все-таки я донесу вашу упрямую сумку, — сказал Каретников, выйдя из машины вслед за ней.
— Все-таки не надо, — улыбнулась Марина, но по велению какой-то силы, которая обещала ей продлить знакомство, занятное знакомство с этим человеком, она передала свою дорожную поклажу в мужские руки.
До санаторного корпуса, белостенного высотного здания с голубыми лоджиями, на которых были видны полосатые шезлонги, вела короткая аллея; они прошли этот путь почти в молчании: две-три дежурных фразы («Как доехали?» — «Нормально». — «Народу много?» — «Только до Ростова» — «Понятно, не сезон…»), но у Марины что-то защебетало в груди.
У стойки администратора она сказала:
— Спасибо вам. Вы… вы настоящий рыцарь.
— Какой же я рыцарь? Всего лишь сумку донес… Увидимся. — Прощальный кивок головы. Прощальный взмах руки. Каретников уходит…
«Увидимся», — мысленно повторила Марина, и что-то забродило внутри, словно бы отведала впервые настоящего грузинского «Саперави», и первый легкий хмель колыхнул на приятной теплой волне разум.
Лифт поднял Марину на восьмой этаж. Она вошла в просторный холл, с зеркальной стеной и угловыми диванами; под огромным окном, в керамических напольных кашпо, грядою клубилась зелень. Она загляделась на растения, а потом увидела себя в зеркале и внутренне поежилась. Кургузенький серый плащ, вылинявший, с разбитыми петлями, еще с невестинских лет служивший и как пальто — с байковой пристежкой, черная, устарелой длины юбка, прямая, без разреза, монашеская, и туфли, в которых на публике стыдно показаться. Хорошо хоть перед отъездом успела в парикмахерскую сходить. Сделала себе любимое каре и покрасила волосы в любимый, подходящий к своим русым, светло-ореховый цвет.