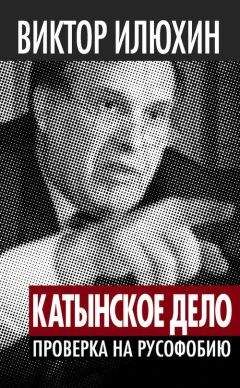Она остановилась и достала мобильник. Поскольку теперь в переулке была абсолютная тишина, я отлично расслышал ее разговор с Канцеляровым. «Немедленно приезжай ко мне!» — сказала она. Затем она вытащила из сумочки смешной дамский пистолет и переложила его в карман пальто. После этого решительно направилась к двери фальшивого гастронома. Я сломя голову бросился за ней. Это был наш последний шанс, и я его не упустил.
— Елена! — прошептал я. Или, точнее, послал мысленный импульс. Она обернулась.
— Любимый!..
Наше бегство было сумасшедшим, но удачным.
Как и положено счастливцам, мы двигались по маршруту в точном соответствии с пресловутыми «энергетическими линиями», которые и привели нас в благословенные края, истинное братство счастливцев, царство любви и благодати, бесконечно удаленное от тех мест, той бедной стороны, где подвизался, сделал фантастическую карьеру, правит и еще долго будет править наш злой гений Канцеляров. Теперь уж, может быть, его называют вовсе не Канцеляровым, а как-нибудь еще.
И даже если мы доживем благополучно до глубокой старости, я не стану искушать судьбу и посылать ему ехидную открытку, чтобы сообщить о своем счастливом существовании. Самолюбие меня не дергает. Это по его части. Черт с ним, и Бог ему судья.
Пришел весёлый парень,
В зубах цветок зажат,
Заприте двери спален,
Не спите, сторожа.
Я не могу смириться,
Я не могу терпеть,
Разыгрываю в лицах
Всё то, что буду петь.
Подснежника прострелы
Сквозь жёлтую траву
И солнечные стрелы
Нас держат на плаву.
На удивленных лицах
Не слёзы, а капель,
И снится мне, все снится
Смеющийся апрель.
Запретный плод скользит в ладонь,
А время пахнет виноградом
И водорослью, и не надо
Бояться смуты городов.
А мы топили в доме печи,
Как порох, вспыхивал сушняк,
Смешались луны, лампы, свечи,
И солью в двери дул сквозняк.
И снова осень, снова осень —
Хурма, гранат и мандарин,
И вновь дорог и ветра просит
Ушедший было пилигрим.
Подражание Пастернаку
(из цикла «Уроки литературы»)
Недвижный Днепр, ночной Подол, дрожат гаражи,
И верный пёс от нас ушёл, не взлаял даже,
И дыма запах, и рассвет, и дух полынный,
И знак беды — нам места нет под небом стылым.
Но май, росой отягощен, лицо подымет,
И лакированным плющом он нас обнимет.
В нём яблонь цвет, полно примет и птичье пенье,
Ты возвращаешься ко мне сквозь мглу сирени.
В тугой пучок связала стебли и травинки,
А в них сквозили земляничные кровинки.
Вода сверкнула сквозь стекло и грань стакана,
Куда плеснули горстью холод из-под крана.
И колокольцы, бубенцы и кастаньеты,
И дух полыни, чабреца — из глуби лета.
Пунцова лента горизонта на рассвете,
Когда ещё не просыпались дети.
Упругий звук — то волчий посвист — осень,
Мы бересты и лапника в огонь подбросим.
Я прислонюсь к тебе щекой, рукой, медвежьим ушком,
Как знак того, что я навек тебе послушна.
Всё так же… дует из угла… сквозняк, как прежде —
Не улетевшие крыла былой надежды.
А осень заморозки шлёт и белит мелом,
Зеркальной грани поворот — …свеча горела…
И начинает круговерть теперь и прежде
Несостоявшаяся смерть в другой одежде.
А мухи в сумерках летят и застят белым,
А иней — множеством карат на листьях прелых.
Замёрзших капель перезвон из чёрных дыр и
Замерший свет не выйдет вон. Тоннели вырыв.
И перемычки наведя в другую крайность,
Из белой бездны выйду я, тебя касаясь.
Человек, конечно, накладывает отпечаток на профессию, которую он выбрал. Но и профессия неизгладима.
Андрей Андреевич Евгеньев познал опасность своей безобиднейшей профессии на собственной шкуре.
Он был искусствоведом, причем не современным art-критиком, что еще как-то сопрягается с «мужским родом», а историком искусства, что в наш век невольно ставит под сомнение «мужественность» субъекта. Разве «настоящие мужчины» станут заниматься столь неденежным и эфемерным делом?
К тому же его угораздило выбрать самый вялый и идиллический раздел русского искусства — сентиментализм.
А ведь по виду был вполне «мужик»: росту высокого, статен и бородат. Но невольно приходило на ум, что всё это маскировка. Что избранная профессия затаилась где-то в глубине и определяет жизнь. Да так оно, в сущности, и было!
Нет, он не был мямлей или того хуже — «бабой». Мог и за себя постоять, и приятеля защитить. И голос у него был не писклявый, а басовитого тембра, и борода росла густая и красивая.
Профессия сказалась в другом. Он на дух не переносил грубости и хамства. «Репортерского» стиля, «рекламных» интонаций. Не любил «политических новостей» и «злободневных» сюжетов. Не переносил в отношениях лжи и панибратства. Кроме того, у него была идиосинкразия к курящим женщинам, к навязчивой косметике, к вульгарным манерам…
Короче, это был очень странный тип, которому трудно было отыскать просто «подружку», не говоря уже о чем-то более серьезном.
Ведь всех этих современных молодых девиц он измерял масштабами «Бедной Лизы», безоглядностью чувств, искренностью душевных движений и утонченностью их проявлений.
«Где же такие женщины ныне? Где же прошлогодний снег?», как с мстительным удовлетворением констатировал поэт.
И остаться бы нашему Андрею Андреевичу, уже давно защитившему кандидатскую и работающему над докторской, вечным одиночкой, брюзгой и женоненавистником, если бы судьба не подбросила ему шанс.
Он давал уроки абитуриентам, собиравшимся поступать на искусствоведческий. Профанное ЕГЭ тут не котировалось. Студентов продолжали опрашивать «по старинке», следовательно, требовались знания. И вот среди учеников-мальчиков к нему затесалась девица. С точки зрения современных вкусов, дурнушка дурнушкой, краснощекая, толстая, с какой-то подпрыгивающей походкой, глупо и странно одетая, что бросалось в глаза в чопорных стенах искусствоведческого факультета, где красотки демонстрировали привезенный из Франции, а то и с островов Океании прикид.
Она же ходила в чем-то темном, вышедшем из моды или даже никогда в нее не входившем, и ясно было, что мода интересует нашу Нюшу (ее звали Анной) в последнюю очередь.
Но зато с каким старанием она записывала себе в тетрадку продиктованную Андреем Андреевичем библиографию. С каким восторгом читала тексты поэтов-сентименталистов! Как пылко анализировала портреты кисти Левицкого и Боровиковского, почти дословно воспроизводя комментарии Андрея Андреевича из недавно им подготовленного альбома.
Нет, к этой Анюте, Нюсе, Аннушке необходимо было присмотреться!
Современную женскую красоту Андрей Андреевич ни в грош не ставил. Она вся была искусственная, «сделанная». Его же сердце жаждало «естественности», наива, простодушия — всего того, что давно вошло в Красную книгу, растаяв вместе с прошлогодним снегом.
Анна Скворцова приехала из какого-то глухого провинциального городка, не то Калуги, не то Рязани, жила в Москве, как он случайно узнал, у тетки. И, вероятно, поэтому сохранила некоторую «провинциальную» неделанность и простоту облика, а также стремление лгать хотя бы через слово.
Давая ей уроки, Андрей Андреевич был строг и сдержан. Говорил только «по делу», лишних вопросов не задавал. Но иногда бросал на нее, как ему казалось, незаметные взгляды.
Да, да, вот эта «естественная» полнота фигуры, над которой не стали издеваться с помощью различных диет. И эти красные щеки — признак здоровья, а не изобретательного макияжа.
И эта широкая, правда, несколько косолапая и неуклюжая походка. С девочкой не занимались балетом и не старались заменить естественную грацию искусственной, придуманной жеманными и женоподобными «дядями»-балетмейстерами…
Ему казалось, что Анна Скворцова не замечает его как бы случайных взглядов. Но она их замечала и истолковывала совершенно превратно. Она думала, что красавец-преподаватель всем своим видом дает понять, что таких непроходимых дур и уродин он никогда не видал. Что он ее выносит только из вежливости и из-за тех денег, которые она ему платит. (Анна знала о ничтожных ставках профессоров-искусствоведов, но даже это не могло ее отвратить от безумной мечты — поступить на искусствоведческий!)