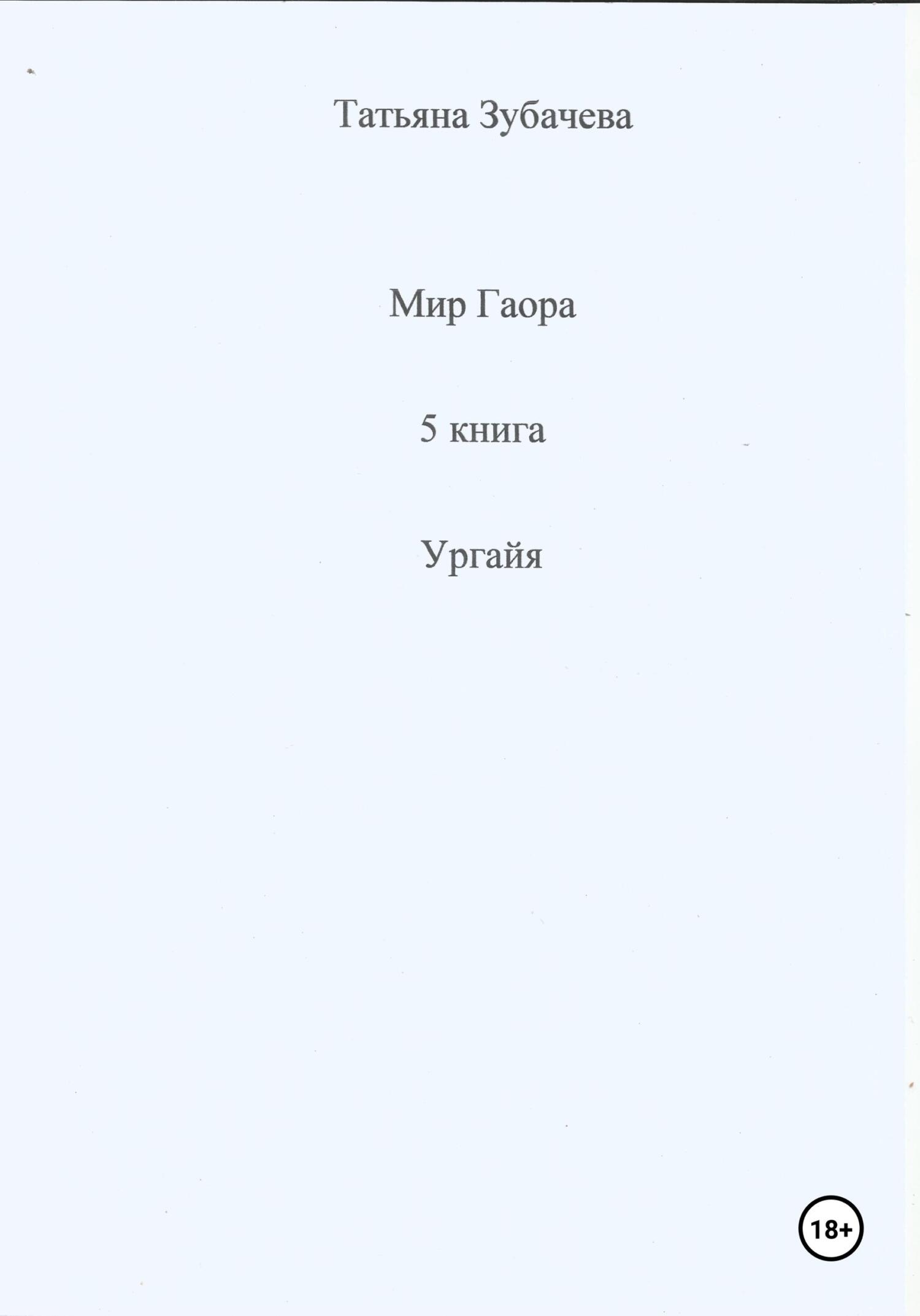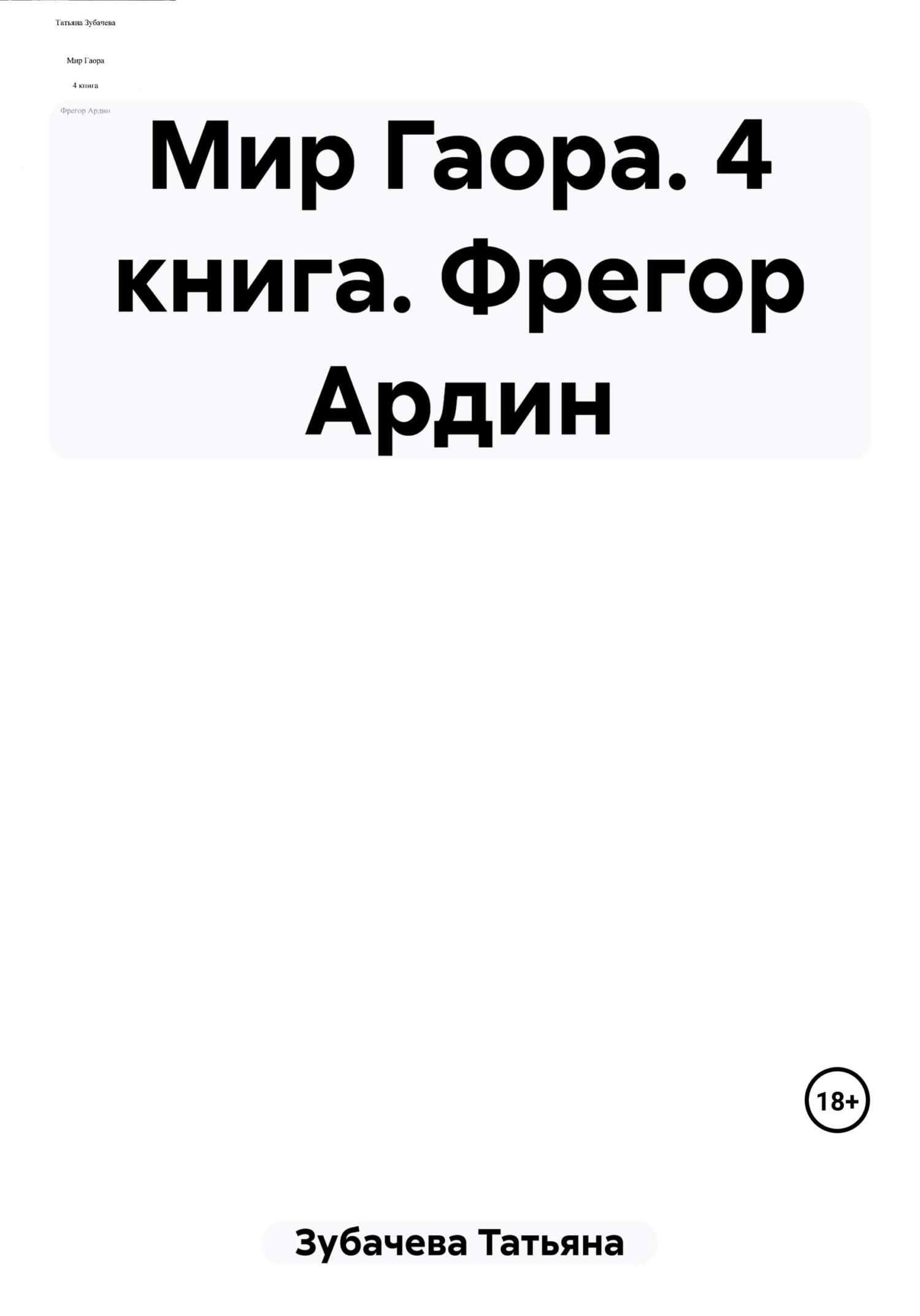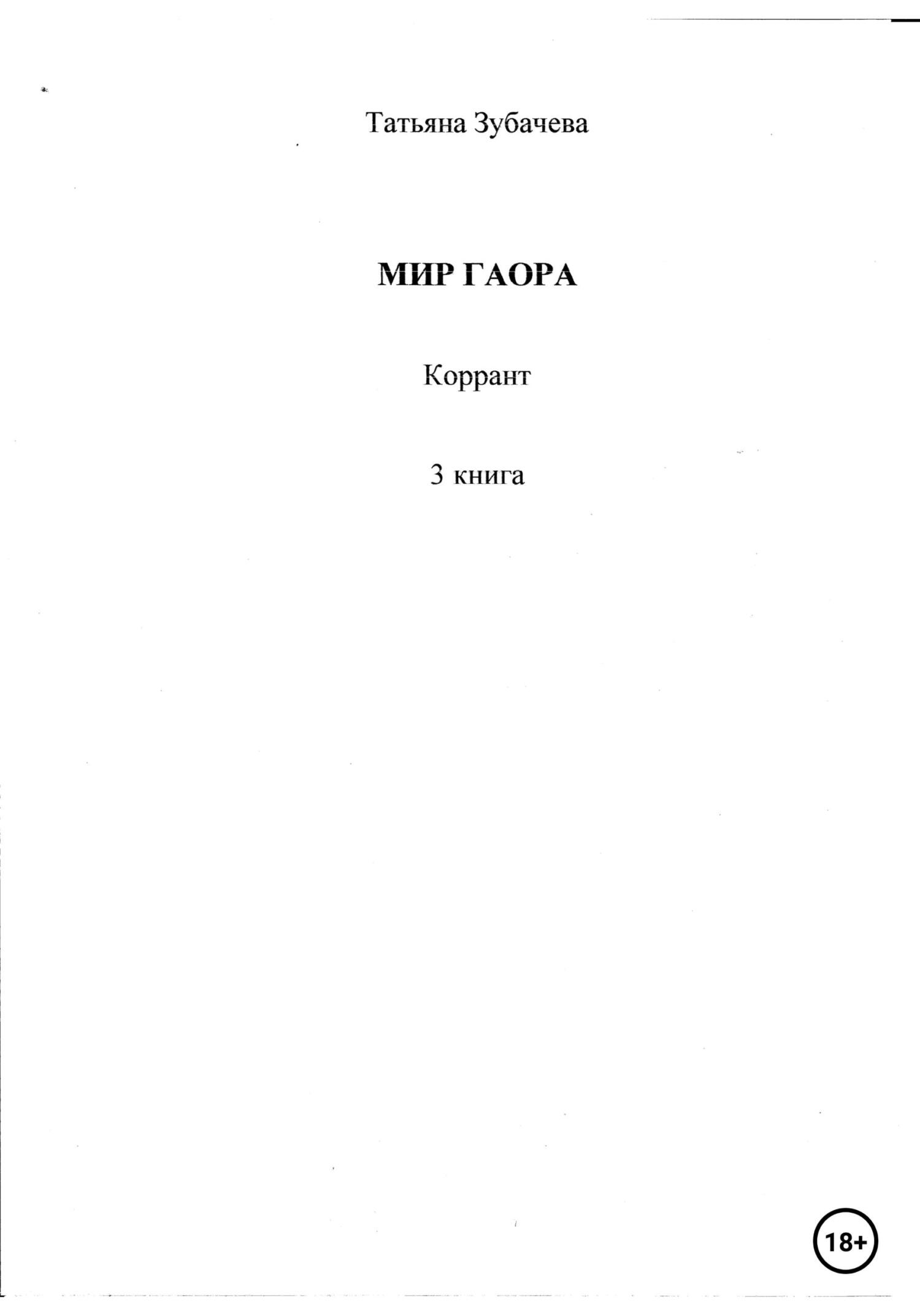смог толком вспомнить. Был только обжигающий лицо холод, пронзительное белое сияние вокруг и красный, как налитый кровью, диск солнца над забором и крышами построек. Временами всё как исчезало, но, опомнившись, он обнаруживал себя стоящим с метлой в руках. Вокруг что-то происходило, иногда он даже узнавал заговаривавших с ним и даже отвечал им, но… тоже потом ничего не мог толком вспомнить. Вдруг возник рядом закутанный черноглазый мальчишка, чем-то похожий на Гарвингжайла, каким тот был совсем давно, и стал бить его, требуя быстрой работы. А что это хозяйский бастард, Гаор вспомнил, когда вопящего мальчишку увёл за ухо Тумак. Гаор успел подумать, что зря это Тумак, ведь выпорют Тумака, и снова всё утонуло в белом ледяном сиянии.
К собственному удивлению, он довольно быстро очухался, и уже к обеду вполне сознательно перестал скрести метлой по одному и тому же месту. И уже не вздрагивал от собачьего лая, мгновенно покрываясь противным липким потом, и даже вспомнил кличку: Полкан. А пёс всё прыгал вокруг него, тыкал носом, и Гаор радовался, что был слишком слаб и не ударил собаку, ведь убил бы, науку эту Рарг в него намертво вколотил. А сейчас вспомнил и ничего, даже…
— Рыжий! — позвала его с крыльца распатланная девчонка.
Гаор посмотрел на неё и тоже вспомнил. Трёпка.
— Чего тебе?
— Обедать иди.
А через двор от сараев, хлевов и прочих служб торопились люди в овчинных полушубках, старых армейских и самодельных стёганых куртках. Визжал под кирзовыми армейскими сапогами и поселковыми войлочными валенками утоптанный снег. Румяные знакомые лица…
И в кухню Гаор ввалился в этой весело гомонящей в предвкушении обеда толпе. Как все, повесил на гвоздь у двери телягу, скинул кирзачи, в общей толкотне у рукомойника ополоснул руки и сел за стол.
— Держи, — протянули ему горячую, наполненную до краёв густой похлёбкой миску.
— Оклемался никак? — спросила Нянька, глядя, как он ест, азартно, наравне со всеми.
Гаор с сожалением оглядел опустевшую миску и кивнул:
— Да, Старшая Мать.
— Тады в гараж иди работать.
Он молча кивнул, принимаясь за кашу.
Да, всё правильно, его работа в гараже, ему и так дали полдня, чтобы очухался и очунелся. И нашенская, родная, да, только теперь понял по-настоящему, родная речь безбоязненно звучит вокруг, понятная и близкая. Да, он вернулся, к своим, домой, дом — не стены, а живущие в нём. И… и мир дому и всем живущим в нём. Скажи это, и тебе ответят: и тебе мир. Сколько ему не отмерит Огонь, но он будет среди своих.
До гаража Гаор дошёл, ни разу не оступившись, справился со щеколдой с первого раза и, войдя, привычно хлопнул ладонью по выключателю у входа. Легковушка, всё та же, знакомая, мытая, чиненная, отрегулированная им. Место для фургона. Стеллажи и верстак. Всё как тогда, будто и не было этого страшного года. А ведь и, правда — вдруг сообразил он — на второй день четвёртой декады его с Лутошкой увезли на торги, и второго же четвёртой декады уже этогой зимы он привёз Фрегора… Гаор с силой ударил кулаком по стойке стеллажа, чтобы мгновенной болью заставить себя остановиться и не вспоминать. Он же так и не помнит, что там было, после крика Корранта, что дети не при чём, что он натворил по хозяйскому приказу. Нет, не надо, не сейчас, потом, когда-нибудь, он спросит и ему расскажут, ведь… ведь если что было, ему бы уже сказали…
Переставляя на полках банки и канистры, перекладывая инструменты, копаясь в моторе легковушки, он старательно уговаривал себя, что ничего такого, уж особенно страшного, не было.
Ещё то и дело кружилась голова, подкатывала к горлу тошнота, дрожали при малейшем напряжении руки, но он уже понимал, что опять, в который раз, остался жив, хотя на этот раз смерть была, ну, совсем уж рядом, а если вспомнить то, виденное и пережитое ночью… Бред — не бред, но и Огненная Черта, и горячий солёный Стиркс, и… полупрозрачные Стиг и Кервин, и Яшен… — всё это было. И… мать, мама, она тоже была. Он видел её, разговаривал с ней. Своего имени она ему так и не назвала, а вот его… да, теперь он знает, он — Горыня, Горка, Горушка… а мать он звал мамыня… Странно, ни в одном из посёлков он, чтоб так называли матерей, не слышал. Мамка да матка, ну ещё у Сторрама, он помнит: Матуха и Матуня, Маманя, Мамушка… Мамыня… что ж, ладно, теперь если его спросят о материном имени, он сможет ответить. Он — Горыня, а мать… Мамыня, не назвала она ему другого своего имени.
Гаор выпрямился, оглядел гараж. Что ж, сделано совсем мало, но на сегодня — всё. Сил осталось только до повалуши дойти и лечь. И ждать зова на ужин он не будет. Всё, на сегодня он кончен. Медленно, преодолевая накатывающее желание лечь прямо на пол, закрыть глаза и лежать так долго-долго, он натянул сброшенную в работе куртку, надел каскетку, привычно проверив ребром ладони середину козырька, и вышел из гаража, бездумно привычными движениями выключив свет и заложив дверь щеколдой.
Ярко-жёлтым светились окна кухни, серебряно блестел в лунном свете снег. Волоча от усталости ноги, он побрёл через двор к кухонному крыльцу. Теперь только бы до повалуши добраться. Повалиться на постель, закрыть глаза и спать. Может, повалуша именно потому так и называется, что валятся в ней…
— Никак пошабашил уже? — встретила его в кухне Большуха. — Ну и иди, повались пока, разбужу на ужин.
— Ага, — ответил он сразу на всё, проходя к себе.
На остатке сил, на «окопной упёртости» он дошёл, разделся, повесил куртку и каскетку, снял и поставил сапоги, смотал портянки и рухнул поверх одеяла, мгновенно провалившись в забытьё. И последняя мысль: повалуша от повалиться…
…Шум весёлых спокойных голосов, запахи, от которых сразу мучительно захотелось есть… Гаор открыл глаза. Ужин?
— Рыжий, лопать иди! — звонко позвал его из-за двери женский голос.
— Иду, — ответил он и шёпотом скомандовал себе: — Подъём!
То ли команда сработала, то ли за доли сна отдохнул, но встал и в кухню вошёл уже вполне бодро, сел на привычное место. Перед ним поставили миску каши, и он с наслаждением окунул лицо в горячий пахучий пар. И как всегда первые ложки в сосредоточенном молчании. Все разговоры потом, когда первый голод утолён и приближается блаженное время спокойного отдыха. И этой, всегда долгожданной доли сегодня Гаор ждал со страхом. Соврать не сможет, а сказать правду…