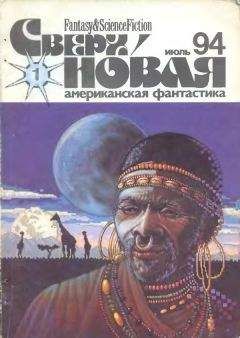У меня осталась на память о ней только старая фотография, которую мы с Джилли вскоре после исчезновения Саманты обнаружили в антикварной лавке Мура. На обороте фотограф проставил дату: 1912 год. А на снимке была Сэм вместе с группой незнакомых людей у парадного входа какого-то старого дома.
Я помнил ее, но она никогда не существовала. Вот во что я должен был поверить, поскольку ничто другое не имело смысла. Я сохранил все чувства и воспоминания о ней — все jamais vu, как мой брат называет это состояние. Это как deja vu, только не ложное чувство того, что вы раньше уже здесь были, а память о так и не состоявшемся. Выражение это пока не вошло в обиход — брат позаимствовал его из боевика Дэвида Моррела — но оно точно отражало суть.
Jamais vu.
Джилли, однако, тоже помнила Сэм.
Думая о Сэм, я всегда испытывал стеснение в груди; попытки осмыслить произошедшее доводили до головной боли. Я чувствовал, что изменяю Сэм, пытаясь убедить себя, что она никогда не существовала, но убеждать приходилось, потому что поверить в реальность было еще страшнее. Как жить в мире, где может случиться что угодно?
— Ты привыкнешь, — говорила мне Джилли. — Есть целый нездешний мир, бок о бок с нашим. Стоит заглянуть туда однажды, и окно больше не закрывается. Теперь тебе этого уже не забыть.
— Но я не желаю помнить.
— В таких делах никто тебя и не спрашивает, хочешь ты или нет, — грустно ответила Джилли, покачивая головой.
Выбор есть всегда — вот во что я верю. И я решил отказаться от поисков в каком-то невидимом мире с призраками и духами и еще неизвестно кем. Но продолжал мечтать о Сэм, как если бы она действительно существовала. И по-прежнему хранил ее фото в скрипичном футляре.
Я мог ощутить ее присутствие прямо сейчас — мерцание, шепот, обращенный ко мне.
Помни меня…
Я не мог забыть. Jamais vu. Но хотел.
Джилли подсела поближе и положила мне руку на колено.
— Если отказаться — будет только хуже, — сказала она, продолжая сейчас, на ступенях храма, наш старый неразрешимый спор. — Пока ты не примешь все как есть, воспоминания повсюду будут преследовать тебя и терзать душу.
— То есть, как Бумажного Деда? — спросил я, пытаясь повернуть разговор на более приятные темы или хотя бы отвлечь внимание от себя.
— Думаешь, с ним происходит то же самое?
Джилли вздохнула:
— Воспоминания могут преследовать почище призраков, — произнесла она.
Будто я этого не знал.
Я посмотрел вниз на ступеньки, туда, где сидел Бумажный Дед, но он исчез, и теперь там бродили только два голубя. Ветер гонял шоколадную обертку. Я накрыл своей рукой пальцы Джилли и сжал их, потом подобрал скрипичный футляр и встал.
— Мне пора.
— Я не хотела тебя огорчать…
— Знаю. Мне просто надо немного походить и подумать.
Она не предложила пойти вместе, и я был этому рад.
Джилли была моим лучшим другом, но именно сейчас мне нужно было побыть одному.
Я шел без особой цели, ноги сами несли меня на юг от Святого Павла и вниз по Баттерсфилд-роуд, и всю дорогу до Пирса футляр хлопал меня по бедру на каждом шагу. Выйдя к пристани, я облокотился на каменный парапет в том месте, где Пирс соединяется с берегом.
Я стоял и наблюдал за рыбаками, сидевшими с удочками по всему берегу озера. Жирные чайки кружились над ними и орали так, будто голодали не один месяц. Внизу на пляже парочка вела оживленный спор, но далековато, чтобы расслышать, о чем. Они выглядели как персонажи из старого немого фильма — карикатуры: движения более размашистые, чем в жизни, быстрее, чем у настоящих людей.
Не знаю, о чем я думал. Я вообще старался не думать, но мне это не удалось. Спорящая пара меня расстроила.
«Держитесь того, что у вас есть!» — хотелось сказать им, но это меня уж никак не касалось. Я думал пойти через город к парку Фицгенри — там было место, называвшееся Силенас Гардене, с каменными скамьями и статуями, где мне всегда становилось легче, — но тут я заметил знакомую фигуру, сидящую у реки западнее Пирса. Бумажный Дед.
Кикаха-ривер называется так в память о племени, говорившем на одном из языков алгонкинской группы и жившем в здешних краях с незапамятных времен, пока не пришли белые и всех не прогнали.
Все, что осталось от племени, — резервация к северу от города и эта река, носящая их имя. Кикаха имеет исток севернее резервации и на пути к озеру прорезает город. В этой части города она отделяет деловые кварталы и торговую пристань от Побережья, где живут богачи.
На Побережье есть такие дома, по сравнению с которыми старые почтенные особняки в районе Нижнего Кроуси выглядят как многоквартирные трущобы, но их отсюда не видно. Глядя на запад, вы увидите только зелень — сперва подстриженные муниципальные газоны на другом берегу, а потом лесистые холмы, что скрывают дома богатеев от нас, плебеев. На самой пристани расположена пара городских клубов, а рядом спускаются к самой воде частные пляжи действительно богатых людей.
Бумажный Дед сидел на моей стороне реки, но издали я не мог разглядеть, чем он занят. Казалось, что он просто сидит на берегу, наблюдая медленное течение реки. Я некоторое время смотрел на него, потом поднял прислоненный к парапету футляр и спрыгнул на песок. При моем приближении Бумажный Дед поднял глаза и улыбнулся легкой, приветливой улыбкой, как если бы ожидал меня здесь встретить.
Джилли сказала бы, что нас свела судьба. Я же упорно называл это совпадением. Город велик, но все-таки не очень.
Бумажный Дед жестом пригласил меня сесть рядышком. Я на мгновение заколебался — как я понял позднее, до этого момента все могло еще пойти по-другому. Но решился и присел около него.
У самой воды была низкая стенка, а дальше росли тростники и лилии. Среди лилий плавало семейство уток — мамаша и выводок утят, — за ними и наблюдал Бумажный Дед. У него был пустой пластиковый пакет с хлебными крошками на дне, и я понял, что он кормил уток, пока хлеб не кончился.
Он снова повел рукой, дотронувшись до пакета, а потом указав на уток.
— Я не знал, что забреду сюда, — сказал я, покачав головой, — и не принес ничего, чтобы покормить их.
Он понимающе кивнул.
Мы долго сидели молча. Утки наконец оставили нас и поплыли дальше по реке, высматривая кого-нибудь пощедрее. Когда они скрылись, Бумажный Дед снова повернулся ко мне. Он прижал руку к груди и вопросительно поднял брови.
Глядя на эту худую руку с узкими длинными пальцами, лежавшую на темной ткани, я вновь поразился абсолютной глубине ее черноты. Даже слегка загорев на улицах за последние несколько недель, я чувствовал себя рядом с ним бледным, как мертвец. Потом я вгляделся ему в глаза. Если его кожа поглощала свет, ясно, куда он переходил — в глаза. Они были темными, такими темными, что с трудом можно было отличить зрачок от радужки, но из глубины поднималось сияние, которое отозвалось во мне как гул басовой скрипичной струны, когда я играю какой-нибудь из диких напевов Шетландских островов в ля-миноре.
Я понимаю, что странно описывать что-то зримое звуковыми понятиями, но именно в тот момент я услышал сияние его глаз, звучавшее внутри меня. И тут же понял, что означал его жест.
— Да, — признался я, — не по себе как-то.
Он снова коснулся груди, но на этот раз другим, более легким жестом. И я так же хорошо понял его значение и ответил:
— Помочь тут некому.
Кроме Сэм… Она могла бы вернуться. Или хоть бы просто знать, что она действительно была… Но это наводило на целый ряд мыслей, а я не был уверен, что снова желаю в них погружаться. Я хотел, чтобы она была настоящей, хотел, чтобы она вернулась, но, признавая это, надо было признать, что призраки реальны и что прошлое может подкрасться и похитить кого-нибудь из настоящего, перенеся во время, давно бывшее и минувшее.
Бумажный Дед вынул свою гадалку из внутреннего кармана пиджака и кинул на меня вопросительный взгляд. Покачав было головой, я неожиданно для себя согласился: «А какого черта!»
Я выбрал голубой, потому что он был ближе всего к тому, что я чувствовал, — других цветов, которые бы выражали смущение, растерянность или неуместность, у него не было. Понаблюдав, как двигаются его пальцы, заставляя бумажку «проговаривать» название цвета, я выбрал из номеров четверку — по числу струн моей скрипки. Когда его пальцы остановились во второй раз, выбрал «семь» — вообще безо всякой причины.
Он раскрыл бумажный клапан так, чтобы я мог прочесть предсказание. Там значилось только: «Поглоти прошлое».
Непонятно. Верно, я рассчитывал на нечто вроде песенки Бобби Макферрина «Не печалься, будь счастливым». А тут вообще никакого смысла.
— Не понимаю, — сказал я Бумажному Деду, — что это должно означать?