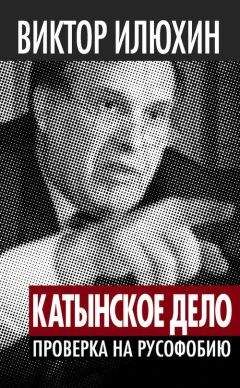А когда он все же вырвался из своего капиталистического угара, предложил мне скрасить досуг посещением тупейшей штатовской кинокомедии «Полицейская академия».
Я был крупно разочарован. И больше Диме не звонил.
Позвонил только после обвала 1991-го, когда цены выросли сразу чуть ли не в сто раз. Обратился за помощью — Дима, кажется, разворачивал какое-то издательское дело. И, не моргнув глазом, предложил мне место корректора с окладом в полтора кило колбасы…
Была у Димки Подобедова одна глобальная идея: прежде чем садиться писать что-то существенное (ну, типа «Войны и мира»), надо сначала заиметь место, где это было бы комфортно писать (ну, грубо говоря, Ясную Поляну). То есть он выводил некую логическую зависимость качества произведений, скажем, Толстого Льва от наличия у Льва Ясной Поляны.
Ясный перец, у нас у всех Ясной Поляны не было.
— Так заработайте! — невозмутимо вещал Подобедов.
И принялся активно воплощать эту установку в жизнь.
Потом увлекся… очевидно, срубил кучу бабок… стал устраивать международные конкурсы бальных танцев…
И когда я ему в очередной раз позвонил, его мама ответила мне, что Дима здесь больше не живет.
— А где же он… живет? — растерянно спросил я, предполагая в том числе и самое худшее.
— В Америке, — спокойно ответила Димина мама, сказала как нечто само собой разумеющееся.
Разумеется, где Диме еще жить?
Итак, судя по всему, Ясную Поляну Подобедов-таки заимел.
Однако что-то не слыхать из этой Поляны восторженных реляций о произведении на свет заявленных шедевров. Я уж не говорю о «Войне и мире». Оттуда (из Подобедовской Поляны) вообще ничего не слыхать.
Возможно, Димка в своей модели чего-то все-таки… не рассчитал?
Речь, слова… и слова прощанья
Как же катастрофически не хватает слов и как узки смысловые границы самого слова!
Недавно после прочтения одного из стихотворений замечательного современного русского поэта Андрея Ширяева, жившего в Эквадоре, вот этого стихотворения:
Тугой, прозрачный звук ладонью зажимая,
приходит по ночам, касается меня пока ещё моя.
Пока ещё живая в холодных языках вчерашнего огня.
И думает о том, что нас не будет в мире,
что мир не в нас, что нет ни мира, ни войны,
и прячется лицом в распахнутом мундире,
и позволяет мне не спать и видеть сны.
Но в поисках любви и сна иного свойства,
я падаю ничком, как спившийся монах,
в кровоточащий дым ночного беспокойства,
в гаданье на чужих, обманных именах.
Повиснув на цепях юродства и блаженства,
ищу другую речь и вижу вдалеке,
как мечутся слова в пределах совершенства
и говорят со мной на странном языке.
…я написала ему в личной переписке: «Андрей, мне кажется, что ты уехал так далеко для того, чтобы искать и создавать иную, не избитую, речь, которую возможно обрести, не соприкасаясь слишком близко с современной, часто примитивной, поэзией и, порождающим ее существованием?»
Он ответил мне: «Танюш, слова, сами по себе, несовершенны, пока на них говорят люди. И слишком мало каждое из слов в себя вмещает. У любого языка есть установленные им же пределы совершенства, максимум возможного. И когда понимаешь, что выйти за эти пределы не помогают никакие ухищрения — просто потому, что слова содержат меньше смыслов, чем тебе необходимо — становится тоскливо и почти физически больно. И хочется всё бросить. Было бы возможно строить стихи из молчания, я бы попробовал. У молчания неизмеримо больше значений».
Позднее, в теме наших рассуждений, я написала три стихотворения, которыми поделилась с Андреем:
Не видеть и не знать! Нырнув, коснуться дна,
Укутать ум в туман — там только чаек крик…
О, тёмная вода! Ты слышишь — я больна:
Колеблется любовь и скуден мой язык.
А та, другая речь, которой удержать
Могла бы эту ночь и поцелуй мгновенный,
Уже давно вольна сметать и возрождать
Носителей её в иных мирах вселенной.
Поговори со мной на странном языке.
Не можешь, милый? Ну, тогда послушай:
Любовь и наша речь, на тонком волоске,
Колеблются в ночи, разъединяя души.
А чуть позже это:
Этот тающий звук, ели слышный земной колокольчик…
Этот праведный ливень, каскадом летящий во мгле…
Этот лес, что когда-то был листвен и ствольчат,
Так прозрачен и тих, как единственный лес на земле.
Помолчу. Не умею читать по губам у пространства,
Не могу рассказать, что успела увидеть во сне…
Бьются мысли в слова тяжело безнадежно, напрасно
И трепещет душа, словно в синем бенгальском огне.
Этих птиц голоса… Жаль, что птичий язык не изучен.
Может, это они, так истошно, кричат нам о том,
Что убоги слова, как терновника серые сучья…
И теряются мысли в непознанном поле земном.
И еще:
Белее белого, при спуске вниз,
Твоё великолепное молчанье,
В полёте мимо синих медуниц,
Вдоль белой ночи сонного сиянья.
Ты начинаешься от берегов,
От хищного, но меткого прицела
По тайникам языческих богов,
Озёрного лоснящегося тела,
От музыки, качающей волну,
Там, у белесой кромки мирозданья…
Коснись земли и слушай тишину,
Её любви безмолвное дыханье.
Андрею понравилось. Я была рада этому. Это было еще совсем недавно, в начале октября прошлого года…
А 18 октября стало известно о том, что Андрей Ширяев ушел из жизни, ему не было и сорока восьми лет. Выдающийся русский поэт покончил жизнь самоубийством.
Вот его последняя запись на Фейсбуке:
«Мне пора.
Последняя книга дописана, верстка передана в добрые руки. Алина, Гиви, Вадим, дорогие мои, спасибо. И спасибо всем, кого я люблю и любил — это было самое прекрасное в жизни.
Просить прощения не стану; всегда считал: быть или не быть — личный выбор каждого.
Чтобы не оставлять места для домыслов, коротко объясню. В последнее время два инфаркта и инсульт на фоне диабета подарили мне массу неприятных ощущений. Из-за частичного паралича ходить, думать и работать становится труднее с каждым днем. Грядущее растительное существование — оно как-то совсем уж не по мне. Так что, действительно, пора.
(улыбается) Заодно проверю, что там, по другую сторону пепла. Может и увидимся».
О чем я думаю? Конечно же об Андрее…
Скорблю неимоверно. Его стихи во мне, со мной и навсегда. Плачу.
В память об Андрее хочу привести одно из любимых мной его стихотворений, завораживающее словом, слогом и смыслом, а также свое посвящение ПОЭТУ.
Ночная сельва дышит торжеством
голодной и вибрирующей плоти.
В бамбуковом, изрубленном, кривом
проёме неба корчится в полёте
нагая тень — и падает к земле;
котёл парит в потоках над углями,
и, отразив изогнутое пламя,
куски лиан, кипящие в котле,
подрагивают тусклыми телами.
Старик рисует знаки. Белый дым
тугих косиц вонзается в пространство
ветвей и гнёзд, сливается с витым
тяжёлым ритмом птичьего шаманства;
взлетают лапы. По вискам моим
когтистая стекает диадема.
Из гнили амазонского эдема
растут стихи, проламывая грудь,
и каждое движение тотема
сопровождает медленная ртуть —
так серебром облитые моллюски
могли бы липнуть к жестам точных рук.
Он требует читать ему по-русски,
и застывает, вслушиваясь в звук
чужого сна. Кричит, ломает круг
и, отыскав меня в словесной чаще,
даёт в щербатой деревянной чаше
отвар: бери и пей, слепой стрелок,
щенок, поэт, сновидец, самозванец!
В момент, когда я делаю глоток,
он начинает танец.
Такой восторг в прищуренных глазах,
что кажется — коралловые змеи
вот-вот проснутся в призрачных лесах
его зрачков, и вздрогнут орхидеи,
и будут пить белёсыми корнями
густую кровь пылающих зарниц…
Взмывает хор. Земля рождает птиц
и стонут джунгли в оркестровой яме.
Прости меня. Я слаб. Я не готов.
Мне страшно.
…Но старик приходит снова,
садится рядом, требует стихов —
доверчиво, смешно и бестолково.
И я читаю до рожденья дня.
А он, похоже, путает меня
с другим, кто был намного раньше слова.