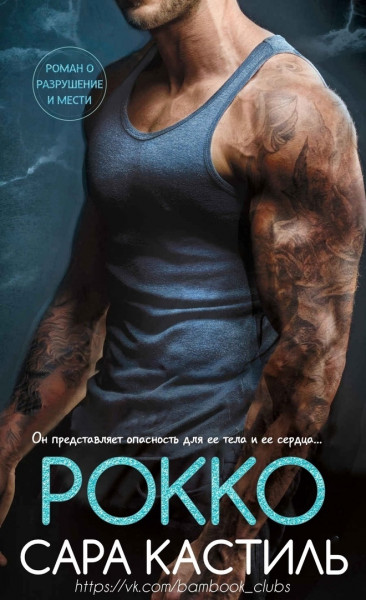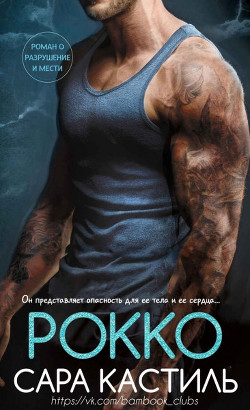что ли, головы нету. Эй, вы, верните бабушке птицу. А вы, бабушка не злитесь так, а то лопните.
С этими словами он отнял у одного из пацанов «знамя» и, оторвав птицу от палки, вернул её старушке, которая была всё время рядом со своим гусём, даже когда этим гусём избивали иудея.
— Нате, бабушка, вашего гуся.
Но старушка, неотягощённая благодарностью спасителю птицы, врезала ему ею по спине и зло прошипела:
— Антихристы окаянные!
Но Рокко не обратил на это внимания, он снова переключился на Чезаре:
— Эй, Чезаре, верни шапочку часовщику, не надо ею в футбол играть. Ты что, меня не слышишь?
А тем временем разъярённая селянка подлетела к полицейским и затараторила:
— Вы что это, а? Меня по всему рынку как последнюю девку таскают, юбку аж до головы задирают, корзину с салом отняли, а вы стоите и смотрите?
— Глянь, как раскраснелась, — сказал один полицейский другому.
— Ага, — согласился другой, — видать, понравилось, дело-то молодое.
— Понравилось⁈ — завизжала молодка. — Я вам покажу, как понравилось. Вот пойду в околоток и напишу заявление, тогда вам понравится, как от начальства влетит.
— А ты писать-то умеешь? — усомнился первый.
— Не боись, грамотная.
— Интересно, а мужу грамотной понравится, если мы ему расскажем, чем посреди белого дня и посреди базара его грамотная жена со шпаной занимается? — как-то абстрактно вслух размышлял первый полицейский.
— Так они же мне насильно юбку задирали! — взвизгнула селянка. — Или у вас бельма повылазили и вы ни черта не видели?
— Видели, милая, всё видели, — заверил второй полицейский. — Красота неописуемая.
— И то, что ты не особо сильно сопротивлялась, тоже видели, — добавил первый.
— Да как же у вас языки ваши поганые…
— А что же тут поделаешь? — продолжал первый. — Натура своего просит, женское тело это, знаешь ли, штука тонкая. Вот так иной раз смотришь на порядочную женщину и нипочём о ней не подумаешь, что ей на рынке посреди белого дня со шпаной заголяться забавно.
— А каково мужу от такой жены? — горестно вздохнул второй.
— Чтобы вы поздыхали, паразиты. Тьфу на вас, на собак, — сказала селянка и ушла.
А к тому времени насилие и грабежи были прекращены отцами-командирами, и армия неспешно покидала разграбленный рынок, предварительно запасаясь всем необходимым, включая переносной лоток с папиросами, что были отняты у торговца вместе с картузом.
Так победно завершилась первая часть войны, а далее наших друзей ждали тяжёлые военные будни.
* * *
— Что это такое? — орал околоточный Стакани, размахивая руками перед носами двух своих подчинённых листом бумаги. — Что это такое, я вас спрашиваю?
— Не можем знать, — отвечал один из опрашиваемых.
— Ах, — не можете знать, — почему-то обрадовался околоточный, — ну, да ничего, вы у меня узнаете. А, ну, отвечать быстро, что было на рынке вчера?
— Ничего-с. Только шпана била цыганок.
— Шпана била цыганок? — переспросил офицер.
— Так точно. Да и то чтобы уж совсем била, камнями чуток покидались, да и из рогаток пострелялись. Шутковали ребята, да и среди цыганок пострадавших нету.
— Это что же такое получается? — понизив голос до шёпота, произнёс околоточный. — Это же получается несанкционированный погром национальных меньшинств.
— Никак нет, — испугался полицейский, тоже переходя на шёпот. — Не погром, так — ерунда-с, только одной цыганке по лбу и дали. Своими ногами ушла.
— Ерунда-с⁈ — заорал околоточный. — Несанкционированный погром национальных меньшинств — это, по-вашему, ерунда-с? А ты, милейший, знаешь, как прокуратура интерпретирует несанкционированный погром нацменов?
— Никак нет-с.
— Так знай, законники рассматривают это не иначе как волнения, а то и бунт. Надеюсь, вам известно, что такое волнения?
— Так точно-с, — хором отвечали полицейские, бледнея.
— А вот это что? — продолжал бесноваться околоточный, тряся бумажкой.
— Бумаги-с, — робко предположил один из подчинённых.
— А что это за бумаги, вам известно?
— Никак нет-с.
— А тогда я объясню. Это жалобы. Это двенадцать жалоб от ограбленных и избитых людей. Вот читаем, — околоточный уселся за стол и стал читать. — Я… ля-ля-ля… такая-то, такая-то, а вот нашёл «причём один из них повалил меня на землю и задрал мне юбку…» Хе-хе-хе, — тут околоточный засмеялся, — «…порвали мне подол и сказали, что у меня жирный зад. Хотя он у меня не жирный, а, напротив, худее прочих, какие есть. А сопляк этот ещё толстых задов не видел…» Ладно, это ерунда, — околоточный отбросил бумагу и начал читать следующую, — вот «…и отняли у меня сто дюжин первосортных яиц, и стали швырять ими в людей, причём несколько штук об меня и разбили…».
— Разрешите заметить, брешет, сволочь. Нипочём там сто дюжин не было. Дюжин десять, не более, — компетентно заметил один из полицейских.
— Врёт? Ладно, разберёмся, — околоточный отбросил и эту жалобу, — а вот жалуется часовщик: «…и этим умерщвлённым гусем, привязанным к палке, стали наносить мне сокрушительные удары в район моей черепной коробки. Один из ударов пришёлся мне в темя, а два — по затылочной части головы. А ещё один по шее в районе шестого позвонка, что привело меня к обострению мигрени и полному расстройству стула прямо на месте…» Я хочу вас спросить, остолопы, — прервал чтение Стакани, — вот вам понравится, если вас будут дубасить по вашим ослиным головам всякими дохлыми гусями?
— Никак нет-с, не понравится, — ответил один из полицейских.
— А тебе? — спросил офицер у напарника.
— Позволю заметить, дохлым гусём по башке никому не понравится.
— А почему же вы думаете, негодяи, что часовщику получать по башке пернатой птицей нравится? Вы думаете, раз часовщик, значит, делай с ним что хочешь? Хочешь гусём по башке, хочешь индюком по морде, так, что ли?
На этот логичный вопрос у полицейских ответа не было, и они сочли за благо промолчать.
— Читаем дальше, — продолжал околоточный, — так… так, вот «после чего хулиганы стали пинать мой головной убор, как будто это дрянь какая-то и денег совсем не стоит. В этом я вижу ущемление своих гражданских прав, потому нет такого закона: пинать национальные головные уборы. К тому же наш милостивый король своим законом даровал нам право исповедовать религию и носить