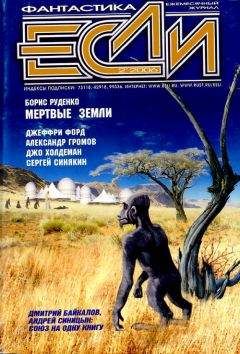До какой-то степени мне удалось разглядеть и отдельные картинки того, что ее окружало. Увиденное меня тоже поразило, потому что жила она в полноценном, но собственном мире, какой-то иной реальности, очень похожей на нашу. Я подсмотрел вполне достаточно и вскоре уже знал, что живет она в большом старом доме со множеством комнат, где на окнах висят длинные портьеры, заслоняющие свет. В ее рабочем «кабинете» царил хаос, стопки рисунков загромождали столики и теснились по краям рабочего стола. Нередко «в кадре» появлялся, а потом уходил черно-белый кот. Она очень любила цветы и часто работала в каком-нибудь залитом солнцем парке или саду, создавая точнейшие портреты амариллисов или анютиных глазок. За моим окном мог литься дождь, а в ее мире небо оставалось бездонно-голубым.
Хотя за прошедшие годы я многим делился со Стэллином, раскрыл ему свои амбиции и тайные желания, про Анну я не сказал ни разу. И лишь закончив среднюю школу и собравшись уезжать в соседний город на учебу в консерватории «Гелсбет», я решил поведать ему о ее существовании. Доктор стал для меня хорошим другом, хотя и получал за свою работу деньги, и всегда с искренним сочувствием и пониманием выслушивал меня, когда я выплескивал на него свое отчаяние. Он упорно внушал мне оптимизм даже в те дни, когда все вокруг казалось чернильно-черным, словно запах отцовского лосьона после бритья. Проведенные с ним часы так и не внесли ощутимой разницы в мою способность привлекать друзей или чувствовать себя увереннее на людях, но его обществом я искренне наслаждался. Одновременно я испытывал нечто вроде облегчения из-за того, что рвал все связи со своим беспокойным прошлым и окончательно сбегал из детства. И мне хотелось выбросить за борт пристрастную доброту Стэллина, чтобы избавиться и от остального.
Мы сидели в той же маленькой солнечной комнате в задней части дома, и он расспрашивал меня о том, какие цели я поставил перед собой, решив учиться дальше. Стэллин неплохо знал классическую музыку, а во время одной из наших первых встреч поведал и о том, что в молодости учился играть на пианино. Его слабостью были композиторы-романтики, но я его за это не винил. И примерно в середине разговора я просто взял и выложил подробности своих экспериментов с кофейным мороженым, в результате которых появлялась Анна. Стэллина мои слова явно поразили. Он подался вперед и медленно совершил процедуру раскуривания сигареты.
— Знаешь, — сказал он наконец, выпустив струйку дыма, запах которого я неизменно воспринимал как писк комара, — это весьма необычно. Насколько мне известно, еще никогда не описывались случаи синестетических видений, достигающих образного уровня. Они всегда абстрактны. Фигуры, цвета — да, но никогда образ предмета, не говоря уже о человеке.
— Зато я уверен, что это синестезия. Я это чувствую. Переживание точно такое же, как и цвета, возникающие при музицировании.
— И она, по твоим словам, всегда появляется, когда ты ешь мороженое? — спросил он, прищурившись.
— Кофейное мороженое, — уточнил я.
Он усмехнулся, но улыбка быстро исчезла, и он принялся теребить бороду свободной рукой. Я уже знал, что для него это жест обеспокоенности.
— То, что ты описал, согласно современной медицинской литературе должно быть галлюцинацией.
Я пожал плечами.
— Но все же, — продолжил он, — с учетом того, что явление всегда связано с употреблением мороженого, а ты способен идентифицировать связанное с ним ноэтическое ощущение, я вынужден с тобой согласиться и признать: тут прослеживается связь с твоим состоянием.
— Я сам понимал всю необычность этого явления. Только боялся о нем рассказать.
— Нет-нет, очень хорошо, что ты это сделал. Меня только одно беспокоит… я прекрасно знаю о твоем желании обрести друга-сверстника. Если честно, тут я вижу все признаки стремления к исполнению этого желания, а они, в свою очередь, все же указывают на галлюцинацию. Послушай, тебе сейчас не нужна эта помеха. Ты начинаешь новую жизнь, движешься вперед, и все указывает на то, что ты добьешься успеха в своем искусстве. Когда другие студенты консерватории оценят твои способности, у тебя появятся друзья, уж поверь мне. Все будет не так, как было в школе. А погоня за этим бесплотным призраком может повлиять на твои успехи. Оставь его в покое.
И я, пусть и не без сожаления, последовал его совету. В известной степени Стэллин оказался прав насчет «Гелсбета». Тут все сильно отличалось от школы, и я познакомился со многими, кто мыслил подобно мне и с кем я мог поговорить хотя бы о музыке. Можете поверить, я был далеко не единственной странной рыбкой в этом пруду. Если у молодого человека главным интересом в жизни был Бах, Моцарт или Скрябин, то в те времена этого более чем хватало, чтобы прослыть эксцентричным. В консерватории царил дух жесткой состязательности, и я принял вызов. Мои ученические музыкальные композиции были встречены преподавателями с большим интересом, а когда однажды кто-то из студентов увидел, как я сочиняю камерную пьесу для скрипки и виолончели с помощью набора цветных карандашей, моя репутация приобрела и оттенок скандальности. Я всегда работал, записывая музыку соответствующими синестетическими цветами, а затем переписывал ее обычными нотными знаками.
Пролетали годы. Пожалуй, они были самыми плодотворными годами моей жизни. Я редко приезжал домой погостить, если не считать каникул, когда закрывали консерваторию, хотя от дома меня отделяла лишь недолгая поездка на поезде. Профессора оказались превосходными, но не прощали лени и ошибок. Мне было совсем нетрудно оправдать их ожидания. Впервые в жизни я ощутил, что означает «играть» — то, чего я никогда не испытывал в детстве. Погружение в великую музыку, тонкий анализ ее души непрерывно поддерживали мою заинтересованность, наполняли ощущением чуда.
На последнем курсе я получил право участвовать в конкурсе композиторов. Победителю доставался крупный денежный приз, а в качестве дополнительной награды его произведение исполнялось на концерте в городском симфоническом зале известными музыкантами. Во все времена композитору было очень трудно организовать публичное исполнение своих творений опытными музыкантами. Конкурс же такую возможность предоставлял, и упустить ее я никак не мог. А гораздо важнее денег или похвал окажется признание, которое привлечет ко мне внимание потенциальных меценатов, и те могут заказать мне какой-нибудь опус. Я понял, что наконец-то пришло время сочинить фугу, задуманную еще несколько лет назад. Как я полагал, сама чрезвычайная сложность этой музыкальной формы станет лучшей демонстрацией всех моих талантов.
Когда настало время сочинять фугу, я взял деньги, заработанные воскресным репетиторством, и снял на две недели пляжный домик на острове Варион. Каждое лето он превращался в популярное место отдыха богатых туристов, которых привлекал старомодный, но изящный городок в центре острова. В разгар сезона моих денег не хватило бы снять там на сутки даже самое дешевое жилье. Но стояла зима, и я взял в консерватории отпуск, прихватил цветные карандаши, книги и маленький магнитофон и укрылся в своем тайном убежище.
Я поселился не в одном из величественных деревянных особняков на сваях, что выстроились по обочинам дороги вдоль насыпной дамбы, а в небольшом бунгало, очень похожем на бетонный бункер. Домик был покрашен в обескураживающий желтый цвет, воспринимаемый мной на вкус как цветная капуста. Он располагался на вершине небольшого холма, а его фасад выходил на океан, и я мог любоваться изумительным видом дюн и пляжа. Более того, от соседней деревушки его отделяли всего несколько минут ходьбы. Внутри было достаточно тепло, имелись телефон, телевизор, кухня со всей необходимой утварью, и я мгновенно ощутил себя дома. Сам же остров был совершенно пустынным. В первый же день я проделал вдоль океанского берега полторы мили до его восточной оконечности, а затем вернулся по главной дороге мимо пустых домов и не встретил ни одного прохожего. Сдавшая домик сотрудница агентства сказала по телефону, что закусочная в городке и лавочка, где продают сигареты и газеты, работают всю зиму. К счастью, она оказалась права, потому что иначе я начал бы голодать.
Обстановка в домике была очаровательно меланхоличной, а при моей повышенной чувствительности это означало стимул к работе. Я слышал далекий шум прибоя, а на его фоне — шорох песка, швыряемого ветром в оконные стекла, но эти звуки меня не отвлекали. Как раз наоборот, они стали компонентами тишины, приглашающей грезить наяву, распахнуть воображение, и я сразу погрузился в работу. В первый же вечер я принялся набрасывать в тетради общий план фуги. Я решил, что в ней будет только два голоса. Разумеется, некоторые композиторы сочиняли фуги, включающие до восьми голосов, но я не собирался с ними тягаться. Проявление сдержанности — такая же важная черта технического мастерства, как и сложность.