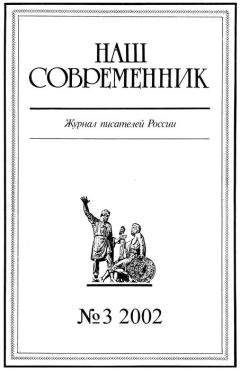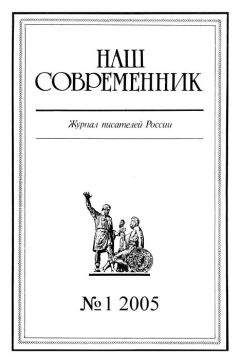После войны Афанасий Иванович, как и многие другие малороссийские дворяне, воспользовался своими новыми привилегиями, уравнивавшими его в правах с великорусским дворянством (указ 1783 г., Жалованная грамота российскому дворянству 1785 г. и др.). Секунд-майор Товстогуб вышел в отставку (к тому же, дослужившись до этого чина, он и так получил право на потомственное дворянство), захватив с собой пленную «туркеню», выучившую впоследствии Пульхерию Ивановну особым образом солить «грибки», и женился «тридцати лет». Таким образом, если рассказчик «Старосветских помещиков» познакомился с Афанасием Ивановичем, когда тому было «шестьдесят лет», то время действия повести приходится на начало 20-х гг. XIX в. Эти хронологические выкладки подтверждаются и наблюдением Н. С. Тихонравова, сопоставившего сцену беседы провинциальных политиков в «Старосветских помещиках» с тем местом в «Мертвых душах», где Гоголь указал, что «после достославного изгнания французов все наши помещики, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые восемь лет заклятыми политиками»[3]. Добавим, что в это время в дрожки Пульхерии Ивановны вполне могли быть запряжены и «лошади, служившие еще в милиции», т. е. в ополчении, сформированном в России во время русско-прусско-французской войны 1805–1807 гг. ввиду угрозы вторжения наполеоновских войск в пределы страны и распущенном вскоре после заключения Тильзитского мира. Следовательно, точность взаимопересекающихся исторических реалий в «Старосветских помещиках» позволяет ответить и на вопрос, занимавший в свое время того же Н. С. Тихонравова: «определение времени, когда жила Пульхерия Ивановна».
Но, разумеется, самым известным упоминанием имени Наполеона у Гоголя является то место в «Мертвых душах», где рассказывается о том, как по губернскому городу N распространился слух, что Павел Иванович Чичиков не кто иной, как «переодетый Наполеон». Правда, городские чиновники, как известно, поверить этому не поверили, «а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона».
Однако самым весомым оказалось суждение полицмейстера, который «служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона». Полицмейстер «не мог тоже не сознаться», что ростом Наполеон «никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать, чтобы слишком толст, однако ж и не так, чтобы тонок». Таким образом, Павел Иванович оказался рассмотренным, что называется, с головы до ног, и было констатировано: да, похож, если не в анфас, то в профиль, если не во фраке своего любимого коричневого цвета с искрой, то в каких-нибудь других, более соответствующих случаю полководческих одеждах. Наполеон, как известно, всем остальным предпочитал мундир гвардейских егерей, а на досуге скромный серый сюртук, вполне гармонировавший с его светло-серыми глазами — отсюда знаменитый приговор крыловского ловчего «Волку на псарне»: «Ты сер, а я приятель, сед…»[4]. При этом как бы подразумевалось, что в случае битвы Чичикова-Наполеона нельзя себе представить иначе как во главе легионов скупленных им мертвых душ, ведущим их на штурм любых твердынь и оплотов. К тому же помимо уже процитированного места из «Мертвых душ» относительно того, что «на целые восемь лет» после изгнания французов все в России сделались политиками, в тексте поэмы, как известно, имеется и более определенное указание на время ее действия: «все это происходило вскоре после достославного изгнания французов».
Была у этого вопроса и сторона, прямо касающаяся восприятия фигуры Наполеона в России. «Мы все глядим в Наполеоны», — писал Пушкин в «Евгении Онегине», подчеркивая стремление своих современников, словно завороженных фантастической судьбой французского императора, быть или казаться похожими на этого маленького великого человека. Или, если перефразировать пушкинские же слова о Байроне, то можно сказать, что сближение с Наполеоном льстило многим самолюбиям. Конечно, мы не можем сказать, как тут обстояло дело с самолюбием гоголевского героя или, положим, пушкинского Германна, также имевшего, как известно, «профиль Наполеона и душу Мефистофеля», — два великих произведения русской литературы хранят на этот счет молчание, полагая, вероятно, достаточно красноречивым уже указание на само внешнее сходство.
Оно словно предопределяло судьбу человека, накладывало на него печать исключительности (вспомним, забегая во времени вперед, о «наполеоновских идеях» героев Достоевского), а порой и прямо вело по этому пути, который мог закончиться и на о. Св. Елены, и на виселице. Вот, скажем, какой портрет занес в свою записную книжку священник П. Н. Мысловский после знакомства с П. И. Пестелем уже во время следствия в Петропавловской крепости: «Имел от роду 33 лет, среднего роста, лица белого и приятного с значительными чертами или физиономиею… увертками, телодвижением, ростом, даже лицом очень походил на Наполеона. И сие-то самое сходство с великим человеком, всеми знавшими Пестеля единогласно утвержденное, было причиною всех сумасбродств и самых преступлений». Об этом же вспоминал и Н. И. Лорер, впервые встретившийся с П. И. Пестелем в Петербурге в 1824 г.: «Пестель был небольшого роста, брюнет, с черными, беглыми, но приятными глазами. Он и тогда и теперь, при воспоминании о нем, очень много напоминает мне Наполеона I». Н. И. Лорер был дядей известной А. О. Смирновой-Россет, с которой был дружен Гоголь, и нельзя исключить, что какие-то его рассказы о прошлом (а он, по единодушному мнению современников, был искусным рассказчиком), в том числе и о П. И. Пестеле, могли через А. О. Смирнову-Россет быть известны и Гоголю.
Из воспоминаний С. В. Капнист-Скалон о другом знаменитом декабристе С. И. Муравьеве-Апостоле: «Ростом он был не очень велик, но довольно толст; чертами лица, и в особенности в профиль, он так походил на Наполеона, что этот последний, увидев его в Париже, в Политехнической школе, где он воспитывался, сказал одному из своих приближенных: „Qui dirait, que ce n’est pas mon fils! (Кто скажет, что это не мой сын!)“». Об этом же эпизоде вспоминает и В. Е. Якушкин. Гоголь с детства был знаком с Софьей Васильевной Капнист-Скалон (они были соседями по Миргородскому уезду) и поддерживал с ней дружеские отношения до конца жизни, так что вполне мог слышать ее рассказы о своем родственнике-декабристе.
У этого вопроса была и другая сторона. Необыкновенное возвышение «маленького капрала», буквально в одночасье покинувшего толпу безвестных «серых» людей (символическим воспоминанием о столь стремительной метаморфозе оставался серый походный сюртук Бонапарта) и превратившегося в императора могущественнейшей державы, диктовавшего свою волю монархам Европы, очередной раз заставляло задуматься над прихотями исторического случая и судьбы. «Каждый» мог себя теперь ощутить потенциальным Наполеоном, если ему, разумеется, улыбнется судьба и выпадет счастливый случай. И не просто Наполеоном, а именно императором, государем, стоящим на вершине власти, получившим эту власть не по праву рождения и наследования, а в силу «стечения обстоятельств». Ведь Наполеон не остался первым «среди равных» революционных консулов, а был увенчан порфирой, коронован главой католической церкви папой Пием VII. Революционный «порядок» сменился монархическим (вплоть до брака с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой, представительницей старейшей династии Габсбургов), породив парадоксальный титул «император Французской республики». Святитель Филарет (Дроздов) в своем «Рассуждении о нравственных причинах неимоверных успехов наших в настоящей войне» (1813) назвал его еще точнее: «непорфирородный царь, возжелавший быть еще непомазанным пророком». Незыблемость мироздания вновь оказывалась обманчивой (его восстановлению и посвятит свою деятельность Священный союз), социальная иерархия подорванной, связь между верхами и низами общества прозрачной.
Все это хорошо известно, однако гораздо меньше внимания обращают на последствия этих катастрофических событий в литературе, в частности, в русской. Так, для нас безусловна их связь с появлением и становлением в ней так называемой темы «маленького человека». «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в Московском Телеграфе. Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос» («Путешествие в Арзрум»). Но порой люди начинают больше верить себе, чем славе, и, по свидетельству специалистов, неиссякаемый по сию пору поток «маленьких Наполеонов» два столетия составляет почти «обязательный контингент» психиатрических лечебниц.