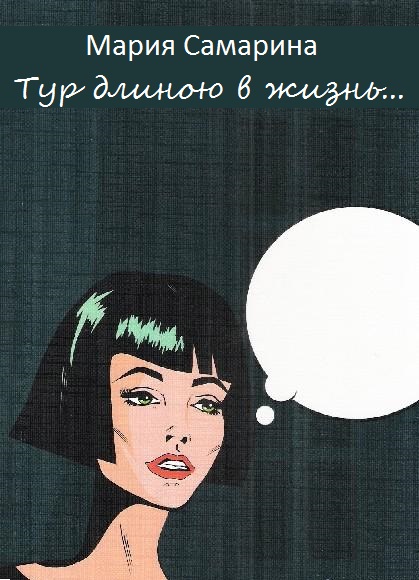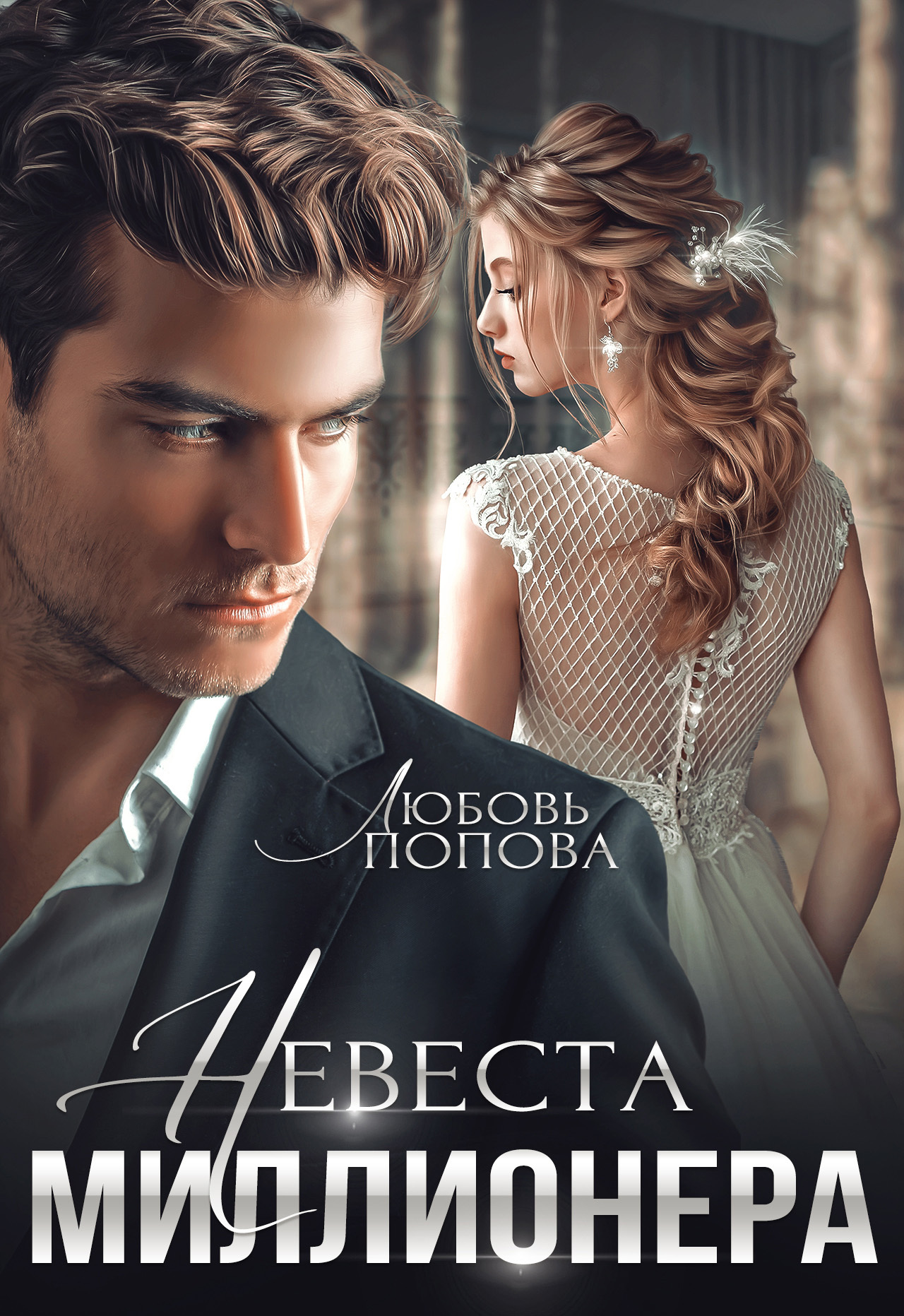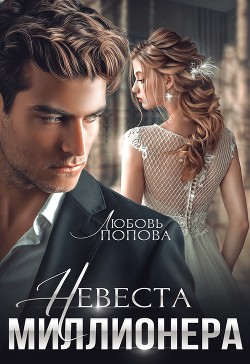что Ямамото лежит на сохранении. И состояние ее тяжелое.
Я из вежливости спросил где, и она дала мне адрес. Время у меня было, и я поехал туда. Весна бушевала, она разрывала оковы ребер, заставляя кровь литься красными тюльпанами, растущими на клумбах.
Я был счастлив, и я был жив.
Я ехал к Ямамото без какой-либо цели. Просто потому, что мог.
Больница разделялась на три корпуса. Это было одно из престижнейших учреждений страны. Страховка, чтобы попасть туда, стоила очень больших денег. Но там были и бесплатные места.
Конечно, Ямамото лежала в лучшей одноместной палате. Это был фактически двухместный номер в хорошей гостинице. Там была и душевая кабина, и даже ванная, впрочем, принимать которую Ямамото было нельзя. На полу лежал яркий ковер.
И я вошел туда неслышно. Врачи беспрепятственно пропустили меня, ведь я был тот, кого кроме ее Помощницы, она внесла в список близких.
Я тихо вошел и заглянул во вторую комнату. Тихо работал кондиционер.
В руку Ямамото был вставлен катетер, и целебная жидкость по капельке, придавала ей сил. Она рисовала. Рядом с кроватью на тумбочке была уже гора рисунков. Я вошел, и она заметила меня. Улыбнулась своей улыбкой, той, с которой на картинах Старых Мастеров в Европе изображали Мадонну.
Попыталась встать, но я остановил ее. Протянул ей руку, и она поднесла ее к своему лбу, а потом поцеловала.
Она не выглядела больной. Как сказали мне врачи состояние, ее было стабильным и сейчас речь шла не о купировании кризиса, а о поддержании нормального хода беременности. Руку я не отнимал ,и она прижимала ее к губам. Потом я ласково отодвинул ее голову. И попросил показать рисунки. Она, словно величайшую ценность, подала мне их. На рисунках был единорог, Женщина с ребенком. Но большинство из них изображали меня. Я был и в одежде рыцаря, и в кимоно, и в свадебном костюме. Несколько рисунков повторяли меня с несколько необычных ракурсов, видимо, так она видела меня в редкие минуты близости.
Я вернул ей рисунки и спросил, готова ли она. Она кивнула. И добавила: «Всегда, Господин».
И я продолжил. Она полулежала, а я нависал над ней.
Она смотрела на меня ангельскими глазами все это время, зная, что я так люблю.
И я не сдержал себя.
Она налила воды и запила.
Я сказал, что она не имеет права болеть. Протянул ей руку. Она поцеловала ее. Но я опять не вырывал ее. А просто погладил по щеке. Я был удовлетворен. Она была моей и доказала это.
Я вышел и попросил врача следить за ее состоянием. Приличный врач пообещал мне это. Я сказал, что если что-то понадобится, то он должен позвонить мне напрямую и я оставил телефон.
По заведенной традиции я оставил ему лично, не очень крупную для меня сумму, а также столько же для всех, кто имеет дело к Ямамото.
Был вечер и доктор проводил меня через служебный вход.
Он шел через благотворительные корпуса, где не было в палатах душей, и где туалет был один на все палаты в конце коридора. Там было уже жарко, и о кондиционерах никто не мечтал.
Я достал платок. Там было смрадно. Там лежали приехавшие женщины из разных частей необъятной Азии, там говорили на десятках непонятных мне языков. И проходя мимо одной из палат, я услышал пение своих стихов:
«Твое платье под цвет волос
Ты плывешь по судьбе, заплетая как время косы.
Ты прекрасна сиянием звезд.
И нет у меня вопросов.
Не ложатся как след строчки.
Я услышал птиц вдалеке
Это время тупою болью
И осталось найти тебя.
Или сдохнуть сегодня ночью».
Меня резануло, и я скривился, как от удара. Доктор понял это по своему и поддержал меня, направив к мусорному ведру, переполненному прокладками и бумагой.
Меня вырвало, но это было привычно здесь. Не привычна была только дорогая еда, которой я перед поездкой подкрепил себя.
Доктор показал сопровождающей сестре, чтобы санитарка убрала за мной.
Я спросил, кто это поет. Она сказал, что девушку на четвертом, предположительно месяце доставили вчера. Она лежала на улице, вся в крови и прохожие доставили ее сюда.
Она не помнила, как ее зовут. Но помнила, что пошла на аборт. Доктор скривился, и продолжал: «Не законный аборт на том сроке, когда никто не возьмется делать его».
Я спросил, удалось ли сохранить ребенка. И доктор сказал, что коновалы не сделали, не успели, сделать ничего плохого, и они сохранили жизнь малыша.
А теперь эта женщина лежит в палате, качает подушку, поет эту песню и не помнит кто она.
Я попросил разрешения взглянуть на нее. Доктор кивнул, и я вошел в палату. На маленьком пространстве там было десять кроватей, на которых, раскинув ноги и не стесняясь мужчин, лежало восемь здоровых теток, девятое место было пусто. А на койке у стены, застеленной перестиранным бельем, сидела хрупкая девушка, она качала подушку и пела:
« Мое платье, под цвет волос»,
И подушка шла влево.
«Я плыву по судьбе, и обрезала косы»,
И подушка шла вправо.
«Я прекрасна сиянием звезд»,
И подушка замирала. Она не поднимала голову, и я подошел к ней. Она почувствовала мой взгляд и подняла голову.
Минуту посмотрела на меня и сказала: «Харуто, мальчишкин, я знала, что ты придешь». И снова стала баюкать сою подушку.
Моя Мэй не узнала меня. Она сидела и баюкала подушку, здесь, посреди филиала ада. Она искала варианты, как убить своего ребенка, пока я развлекался.
Слеза прокатилась у меня по щеке. И я повернулся к доктору. И спросил, есть ли у них палаты там, наверху. Доктор посмотрел на меня и не стал задавать вопросы. Он кивнул. Про цену он тоже не говорил. Пока. За что я ему был благодарен.
Я обнял Мэй, добился фиксации