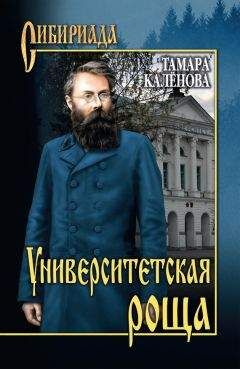— У Байнура совета просишь... А родную тетку, заменившую тебе мать, не слушала... — раздался за спиной голос, полный обиды.
Маша перестала плакать. Но шею Байнура не отпускала.
— Все жить торопишься, — продолжала тетка. — Легко бросаешься самым дорогим... Цирк тебе не нужен... На электронику потянуло. Как же — красиво и модно звучит! А что она тебе, электроника, если ты рождена артисткой?! Спохватишься — да поздно будет, умрет в тебе талант! В костер и тот дрова подбрасывать надо...
Маша в последний раз погладила шею Байнура. Выпрямилась.
— Я благодарна вам, но... не надо мучать друг друга. Хочу жить своим умом... Я так решила.
Она быстро прошла мимо тетки. Переодевшись в платье и накинув на плечи плащ, проскользнула мимо накрытого к прощальному банкету стола, выбежала на улицу.
Все. С цирком покончено. Она будет писать письма, приезжать к тетке в гости, покупать билет в первый ряд — но не больше! Она теперь взрослая. У нее муж, друзья, впереди — учеба...
***
Измаил драил пол в коридоре. Маша вспомнила: их очередь.
— Майка, бедный мой! Я сейчас...
Измаил разогнулся, и Маша только сейчас увидела, до чего он осунулся, побледнел. Она поднялась на цыпочках и поцеловала его.
— На работе... все нормально? — спросил Измаил.
— Нормально. Они уедут завтра, — ответила Маша, поняв его тревогу.
«Они» — это слово обрадовало Измаила. «Они» — значит, без Маши, значит, с цирком покончено! Он стиснул ее плечи и громко заговорил :
— Маруся, ты... иди приляг. Ты с работы, устала... Иди. А я быстро домою — и к тебе...
— Ладно, — улыбнулась Маша, покоренная его радостью. — Иду!
Она сбегала в комнату, натянула цирковое черное трико, надела Измаилову рубашку и вернулась ему помогать. Он было запротестовал, но и рад был одновременно.
Близилась полночь. В коридоре тихо, горит одна лампочка. У окон, в укромных закоулках, пары влюбленных. Стоят. Шепчутся. Молчат...
Маша в нерешительности остановилась перед одной парой. Измаил поспешил ей на помощь. Ничего не говоря, он взял парня за плечи и ласково переставил шага на три в сторону. Девушка машинально передвинулась тоже.
— Смелее, Маруся! — подмигнул Измаил.
Маше стало весело. С лихостью бывалого матроса она принялась драить пол. Она была готова каждый день мыть длинные-длинные коридоры, избитые сотнями ног, лишь бы всегда у нее на душе было так легко, было такое согласие с Измаилом.
Мысли перескакивали с одного на другое. Маша не могла о чем-то упорно и подолгу думать. Она жила чувствами.
Общежитие она непременно полюбит. Оно похоже на манеж. Все на виду, в открытую, много смеха и стремительного доверия. Войдет человек: два-три взгляда, шутка — и уже свой. Или совершенно чужой, навсегда...
Она узнает и полюбит коммуну, куда Измаил ввел и ее ради экономии семейных денег. Она научится бережно переставлять влюбленные пары, она постарается быть здесь своей...
— Готово? — негромко окликнул ее Измаил.
— Сейчас!
Они вынесли грязную воду, сложили ведра, тряпки и отправились умываться.
Возвращаясь из умывальника, Маша не могла не полюбоваться на свою работу: влажные половицы, протертые до блеска панели и батареи. И среди этой обновленной чистоты — островки влюбленных.
— Майка, хорошо-то как! — прошептала она. Измаил благодарно улыбнулся, обнял ее.
— Наш дом, Маруся, самый шумный, но самый... Понимаешь меня?
— Да. Прекрасный.
— Давай постоим, — предложил Измаил.
Маша прислонилась к стене. Теперь они ничем не отличались от молчаливых пар по соседству. Измаил осторожно приподнял Машино лицо:
— Загрустила?
— Нет, что ты! — Маша посмотрела на мужа долгим, преданным взглядом.
— Вот и отлично! А я думал — загрустила... И вдруг он улыбнулся:
— Слушай, Маруся, ты какая-то новая?..
— Брось... Я такая же, — Маша попыталась высвободиться из его рук.
— Нет, новая! — и он притронулся губами к левому глазу.
Маша засмущалась и отшутилась:
— Вот куплю несмываемую тушь, буду всегда старая!
— Не надо! Так лучше...
В эту ночь они долго шептались. До тех пор, пока не пробежал последний трамвай, играя голубыми искрами.
— Я все равно не пустил бы тебя никуда, — признался Измаил. — Ты — моя.
— Ладно... — шептала она доверчиво. — Попробую... А все-таки жаль, что ты не гимнаст!
Измаил усмехнулся:
— Я геофизик. Это почти одно и то же.
— ...Мы бы с тобой сели в поезд... Или в автобус... У нас в цирке такой голубенький автобус, с цветными занавесками... Когда мы едем по городу, мальчишки показывают пальцем и кричат: «Клоуны приехали!»
Она помолчала, вспомнив свои колебания, мучения, и с какой-то старческой мудростью сказала:
— Знаешь, Майка, мы — лучшие семьянины в мире!
— Это еще почему?
— Не смейся! Пойми: не больше месяца мы живем на одном месте, в каком-нибудь городе. Ведь нам надо менять не номер, а публику. Мы же не театр! Кругом все чужое, незнакомое... Вот мы и сбиваемся в тесную кучку. А кто семейные — те и не ссорятся до самой смерти...
— Значит, мне повезло, — сказал Измаил, целуя ее.
***
На другой день, с самого утра Маша была неестественно беспечной и возбужденной. Проводила Измаила на лекции; похохотала с Гришкой, потом навестила Лиду.
Но к вечеру ей стало невмоготу: в семь часов уезжал цирк.
Маша заторопилась, стала лихорадочно переодеваться и от растерянности оделась как-то небрежно, пестро.
Ветер куролесил по улицам. Парки оголились, стали просторными. Люди шли торопливо.
В городском саду разбирали карусели. На летней эстраде было полно листьев — искателей затишья и приюта. Микрофон, от дождя одетый в кожаный колпачок, походил на невеселого гнома.
Все словно собралось в отъезд.
Но на рекламных щитах еще висели цирковые афиши: «Клоунада. Воздушные гимнасты. Артисты Кадыр-Гулям, семейный номер...»
От внезапного ветра, пронизавшего все тело, Маша запахнулась плотнее в плащ.
Вокзал ее встретил тем же неустойчивым ветром, гудками маневровых.
Маше сразу бросилась в глаза на пустынном перроне группа знакомых артистов. Все продрогли. Все закутаны в темные плащи, дорожные шарфы, пледы. Все с озабоченными лицами.
Маша подошла к ним с робостью, поискала глазами тетку. Ее не было. Оказалось, что Серафима ушла договариваться о провозе собак.
Клоун Витя, необычайно худой в своем коротком плаще, был сильно пьян. Он сидел на клетке с собачкой, то и дело съезжая с нее.
— А, Мари! Гуд ивнинг! — приветствовал он Машу.
— Добрый вечер... — К сердцу Маши прихлынула теплая волна жалости и любви к этому человеку. Витя изредка срывался, и тогда все отчетливо видели, как ему одиноко и как стыдно за свой срыв.
Она помогла Вите сесть прочнее.
— Мерси... — пробормотал он. — Х-хочешь, расскажу быль? Ты ведь обожаешь веселенькое...
— Расскажи.
— Иду я, пардон, на вокзал... Боюсь опоздать, спешу... Джонка моя в руках.
Он шлепнул ладонью по верху клетки. Джонка с неудовольствием заворчала на хозяина.
— Останавливает меня малец, этакий семи-го-до-валый... Басит: «Слушай, дяденька, подари мне своего пса, когда помрешь!» Я чуть не умер со смеху.
Словно в подтверждение, Витя захохотал и раскашлялся.
Маша улыбнулась с усилием.
— Да... весело!..
В одну минуту в памяти пролетел весь прошедший сезон: публика, аплодисменты... Почти у каждого артиста — намек или надежда на любовь, знакомства... А теперь вот — никого. Кроме Маши, никто не пришел их проводить.
«Что ж, — подумала Маша, силясь быть невозмутимой и гордой за близких людей. — Мы, артисты, сродни перелетным птицам. Тех тоже только встречают...»
Неожиданно все засобирались, подхватили чемоданы. Музыканты — свои инструменты.
Маша подняла клетку с Джонкой и повела нетвердо переступающего Витю к вагону.