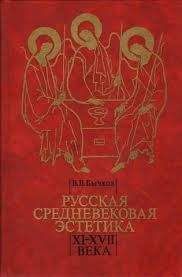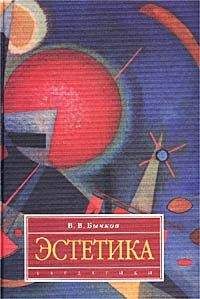Во – вторых, как и Бёрк, он связывает «заразительность» со способностью к симпатии, к особого рода эмоциональной коммуникации, сопровождаемой сопереживанием и сочувствием. Для Гердера это важно, так как на сопереживании в немалой степени основано нравственное воздействие искусства.
И, наконец, в – третьих, Гердер обращает внимание на ту особенность языка, которая позже получит название «физиогномики слова».
Выше было отмечено, что одной из трех основных черт поэтической речи, согласно Гердеру, является красота. Поскольку речь идет о красоте, связанной со смыслом (образами и пр.) слов, постольку действие красоты поэтической речи «укладывается» в смысловой способ воздействия. Поскольку же вопрос касается красоты звучания, она действует непосредственным образом, вызывая эстетические чувства. Механизм коммуникации эстетического чувства, связанный с анализом формы, Гердером не исследуется. В этом аспекте, как будет показано позже в главе о Канте, последний глубже вник в проблему, нежели Гердер, полемизирующий с ним.
Завершая рассмотрение гердеровского учения о поэтической речи, необходимо отметить справедливость методологического требования, согласно которому любое объяснение гердеровской концепции должно с необходимостью идти рука об руку с обсуждением его идей о примитивных языках[445]. В предыдущем изложении при характеристике поэтической речи бы ло использовано то описание «первобытных языков», которое им дает Гердер и которое давало ему основание сближать их с поэзией.
Эти языки, по Гердеру, выражали непосредственное чувство, аффекты, страсти, радость, удивление, владевшие душой первобытного человека. Это были чувственно – конкретные, образные, певучие и ритмические, как правило, сопровождаемые жестами, богатые восклицаниями. Они были свободны в своем синтаксическом построении, но еще бедны абстрактными понятиями[446]. Не трудно в этом описании увидеть те черты, которые Гердер считает наиболее характерными для поэзии.
Если какую – то пору в жизни языка мы считаем наиболее поэтической, пишет Гердер, то значит, пройдя ее, поэзия утрачивает то, что являлось до тех пор ее предметом. Иными словами, Гердер с его историзмом совершенно ясно отдает себе отчет в том, что современная поэзия и первобытные языки – это не одно и то же[447].
В этой связи интересно отметить очень проницательные и современно звучащие замечания Гердера об изменении условий, в которых происходит художественная коммуникация посредством поэтической речи. Главное изменение связано с введением книгопечатания. Раньше поэт пел, теперь он стал писать, прежде певец или рапсод пел только для «настоящего момента», теперь он пишет ради «классического наследия», «ради бумажной вечности». Некогда стихи звучали в кругу живых людей, оживляемые голосом, душой и сердцем певца или поэта, и их слушали с особым вниманием и душевным настроением; теперь же они напечатаны на листах, их читают, причем в любое время. Общий вывод мыслителя: «как много выиграла поэзия в качестве искусства и как много утратила в своем непосредственном воздействии!»[448].
Проблема искусства и коммуникации освещается Гердером по преимуществу в связи с анализом речи, однако частично и в связи с анализом музыки и изобразительных искусств. В отличие от поэзии музыка, полагает Гердер, пользуется естественными знаками – знаками, выражающими чувство. Источник музыки – певучие первобытные языки.
Живопись также оперирует естественными знаками, но эта «естественность» другого рода: связь знаков с обозначаемым предметом основана здесь на «свойствах самого изображаемого предмета». Иными словами, знаки живописи – изображения.
Анализируя психологию восприятия и воздействия музыки и изобразительных искусств (в частности, в трактате «Пластика», 1778), Гердер делает ряд тонких наблюдений относительно психологического механизма коммуникации в искусстве. В особенности важно отметить мысль, в которой содержится догадка об эффективности художественной коммуникации, а значит, и воздействия искусства посредством соединения, синтеза различных искусств[449].
Какое место в учении Гердера о языке и искусстве занимали проблема символа? Ответ на этот вопрос мы получаем главным образом в поздних сочинениях Гердера – в «Каллигоне» (1800) и «Adrastea» (1801).
Гердер рассматривает аллегории и символы как «формы языка художника, в них он запечатлевает мысли, ими он пробуждает или описывает чувства»[450].
Следуя традиции Просвещения (и выступая против кантовской критики термина «символический»), Гердер под «символом» понимает дискурсивный способ познания через понятия. В искусстве символ – это выражение общего понятия через изображение принятого отличительного признака. Например, понятие справедливости – через изображение меча и весов. Понятие в символе заключено не в (in) самих этих признаках, а при, около них. Чем естественнее, полнее выражено изображенное понятие, тем лучше оно символизировано. Самый совершенный символ – «натурсимвол» (Natursymbol)[451].
Конвенциональность «натурсимвола» опирается на природные, естественные связи. Эти связи носят органический характер наподобие отношения души и тела, внутреннего и внешнего, и в сущности совпадают, что раньше Гердер называл «животным языком чувств». Однако если ранний Гердер считал эту связь «окраиной поэзии» и искусства вообще, то теперь он считает, что только она наполняет жизнью знаки поэзии, которые он теперь называет символами: слова, тон, ритмы. Все поэтические символы – ничто, если они не являются «натурсимволами». Гердер выступает с осуждением рационалистических аллегорий и атрибутов, превращающих, например, аллегорическую драму в холодную игру ума. Напротив, он считает, что у древних греков аллегории и персонификации – почти «натурсимволы»[452].
«Натурсимволы» искусства следуют не законам природы, а законам красоты. Подлинный символизм и красота в сущности совпадают. Это гармоническое соединение, по Гердеру, особенно характерно было для греческого искусства, которому противостоит восточное. Гердер выступал против соединения искусства с религиозным символизмом. В этом случае, полагает Гердер, искусство становится на службу внешних целей, нарушается известная автономия искусства. Кроме того, основной предмет религиозного символизма – Бог и бесконечность – невозможно, утверждает Гердер в «Критических лесах», выразить средствами художественного символизма.
Учение Гердера о «натурсимволизме» послужило, пожалуй, главной питательной почвой для той «легенды» об «иррационализме» Гердера, о которой мы уже говорили. Вернемся в этой связи вновь к Б. Со́ренсену.
Прежде всего датский ученый неоправданно распространяет концепцию «натурсимвола» на весь период творчества Гердера, не учитывая эволюции его взглядов. Этим и объясняется, что «натурсимволическое» истолкование языка у Гердера он считает «ядром» его учения, а знаковую теорию – «уступками» просветителям.
Для Гердера, как и для всех просветителей, «теория мимезиса была аксиомой»[453]. Так, например, в «Лесах» он писал: «живопись, музыка и поэзия – все они мимичны, подражательны, но различны в средствах подражания…»[454]. Призыв художнику подражать природе проходит красной нитью через все сочинения немецкого философа. Однако у лидера «Бури и натиска» «подражание» включает в себя и «выражение»; творить так же выразительно, органично, символично, как это делает природа. В концепции «натурсимволизма» этот акцент на «выразительности» искусства ощущается более выпукло. Однако ни в отношении этой концепции Гердера, ни тем более по отношению к его учению об искусстве в целом нет оснований утверждать, как это делает Со́ренсен, что у Гердера (и в этом отношении он якобы противостоит Лессингу) «сущность искусства не имитативна» и требование к искусству подражать природе безоговорочно отменяется[455].
И, наконец, последнее. У Со́ренсена и других западных авторов имеется тенденция связать натурсимволизм Гердера с религиозным и неоплатоническим истолкованием природы и мира[456]. В работах марксистских исследователей в этой связи отмечается, что следуя традиции Винкельмана и Лессинга, Гердер «все дальше уходил от идеализма в сторону пантеизма, окрашенного в материалистические тона»[457].
Кроме того, эти проблемы решались им в контексте его общей концепции человека и искусства – концепции, разделяемой с ним другими выдающимися «бурными гениями» – юным Гёте и Шиллером. Составными частями этой концепции были «представление о высокой общественно – исторической миссии искусства», отказ от односторонне – рационалистических моделей человека и искусства при одновременном желании избежать не менее одностороннего эмотивистского крена, интерпретация личности как единства чувственной и духовной активности, рассмотрение искусства как единства содержания и формы, единства истины, добра и красоты; поиск диалектического решения проблемы прекрасного, связанного со стремлением преодолеть чисто объективистский и субъективистский подходы[458].