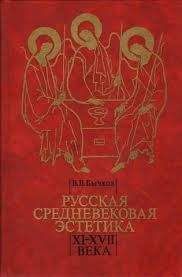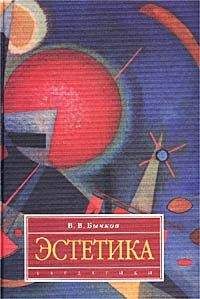Чтобы понятнее было дальнейшее рассуждение Шиллера, обратимся к его концепции выразительных движений, представленной в статье «О грации и достоинстве» (1793).
Шиллер различает произвольное и непроизвольное движение, среди последних различаются инстинктивные и «симпатические», которыми сопровождаются моральные чувства и помышления. Когда человек говорит, вместе с ним говорят его взгляды, черты его лица, его руки, часто все тело, и нередко мимическая сторона разговора оказывается наиболее красноречивой. В произвольных движениях может «примешиваться» то, что симпатически определяется состоянием чувств субъекта и может, таким образом, служить выражением этого состояния. Связь произвольного движения с предшествующим ему помышлением случайна, это движение относится к душе как условный знак языка и выраженной им мысли. Наоборот, симпатическое движение аналогично крику волнения и страсти, оно связано со своей причиной, то есть естественной необходимостью. В процессе коммуникации о человеке лучше всего судить по мимике, сопровождающей его слова, по жестам, то есть по непроизвольным его движениям.
«Выразительным (в самом широком смысле), – пишет Шиллер, – я называю всякое телесное явление, сопровождающее и выражающее душевное состояние. В этом смысле выразительны все симпатические движения. Выразительным в узком смысле является лишь человеческий организм и то лишь в тех своих проявлениях, которые сопровождают и выражают состояние его моральных чувств». Из понятия красоты, полагает Шиллер, следует, что она должна по крайней мере казаться «совершенно непроизвольным действием…»[611].
Новым у Шиллера по сравнению, например, с Гердером является настойчивое выделение среди непроизвольных движений «симпатических», с которыми по преимуществу, согласно Шиллеру, и имеет дело коммуникация в искусстве. Однако детально этот вопрос Шиллером не исследуется.
Итак, действие музыки, по Шиллеру, заключается в том, что внутренние душевные движения она сопровождает и воплощает в аналогичных внешних. Так как внутренние движения совершаются согласно «строгим законам необходимости», то и внешние, выражающие их движения приобретают необходимость и, таким образом, «приобщаются к эстетическому достоинству человеческой природы». Проникая в тайну законов, правящих внутренними движениями человеческого сердца, и изучая аналогию между этими движениями и известными внешними явлениями[612], композитор и пейзажист из изображения простой природы становятся подлинными живописцами душ[613].
Внешние формы, движения, становясь выражением чувств человека, приобретают, по Шиллеру, символический характер. Прежде чем обратиться к этому важному аспекту этих положений Шиллера, дадим в целом краткую характеристику тому, как ставится в философской эстетике Шиллера проблема символа[614].
В «докантовский» период (см. «Теософия Илия», 1780) мы встречаем у Шиллера философское обоснование учения о символе. Природа символически обозначает разнообразные проявления существа Бога. Эти символы суть «знаки», «иероглифы», «шифры», составляющие «алфавит», посредством которого люди (их «дух») общаются между собой и с Богом («совершеннейшим духом»)[615].
Применительно к искусству термин «символ» в этот период используется в цитируемой в начале этого раздела статье «О театре» (1884), где последний рассматривается как важный «канал» коммуникации. Шиллер пишет о том, что театр говорит с подданными «символами искусства». Он противопоставляет театр, «где все наглядно, живо и непосредственно», религии с ее символами, характеризуя последние как «фантазии, загадки без разрешения, пугала и приманки из неведомой дали»[616].
В трактате «Каллий…» термин «символ» близок по своему употреблению к аллегории. Так, Психея, порхающая над земным миром на крыльях бабочки, является, по Шиллеру, «удачным символом» свободы от оков материи, способности побеждать тяжесть[617].
Уже в статье «О патетическом» (1793), в письме Кёрнеру от 18 февраля 1793 г. отчетливо видно влияние кантовского понимания символа. Символ связывается теперь не с языком природы, а с выражением идей, которые неизобразимы. «Конечная цель искусства есть изображение сверхчувственного» – «моральной свободы». Однако изобразить эти «сверхчувственные» идеи в наглядных образах невозможно. Это можно сделать лишь символически, «косвенно»[618]. Шиллер в этой работе, как и в статье «О грации и достоинстве» (1793), в сущности разделяет концепцию красоты в искусстве как символа нравственного.
Уже в «Письмах об эстетическом воспитании» не без влияния переписки и общения с Гете[619] Шиллер проявляет самостоятельность по отношению к Канту в данном вопросе. Символическим в искусстве Шиллер считает такой образ человека, который выражает «идею его человеческой природы». А эта идея не сводится только к нравственной свободе человека. «Символом его осуществленного назначения» был бы такой образ человека, который «сознает свою свободу и вместе с тем ощущает свое бытие, когда он одновременно чувствует себя «материей» и познает себя как дух»[620].
В письме к Гете от 23 июня 1797 г. Шиллер замечает, что «Фауст» при всей своей поэтической индивидуальности не может вполне отвести от себя требование символического значения, в чем он усматривает и замысел Гете. «Все время видишь перед собой двойственность человеческой природы и тщетное стремление соединить в человеке божественное и физическое…»[621]. Тщетное потому, что это соединение достижимо лишь в «в совокупности всего времени». Символ у Шиллера, как и у Гете, – это «изображение бесконечного»[622].
Наблюдается и различие в подходах к понятию символа у Шиллера и Гете. Если у Гете символ помогает раскрыть тайны объективной природы, то у Шиллера, как точно отмечает Б. Со́ренсен, «символ поднимает природу из ее объективной сферы и вовлекает ее в субъективную сферу человека»[623].
Так, в рецензии на «Стихотворения Маттисона» он пишет, что художник путем «символизации» пытается превратить неодушевленную природу в человеческую и таким способом «приобщить ее ко всем художественным преимуществам, составляющим достояние последней». Шиллер видит два пути такой символизации: изображение чувств и изображение идей.
Об изображении чувств уже говорилось выше, когда внешние движения, будучи аналогичными, выражают внутренние движения человеческого сердца. Так вот эти действия Шиллер называет «актом символизации»[624], посредством чего простые природные явления звука и света могут приобщиться к эстетическому достоинству человеческой природы.
Следует подчеркнуть, что будучи «субъективными» по отношению к внешней природе, символы музыканта и пейзажиста у Шиллера вполне объективны по отношению к внутреннему миру чувств человека. Они могут смело стать рядом «с поэтом, объект которого – человек внутренний». С помощью символов удается проникнуть «в тайну законов, правящих внутренними движениями человеческого сердца»[625].
Второй путь (сформулированный Кантом) вовлечения природы «в сферу человеческого существа», как уже отмечалось, это – «выражение» идей. (Термины «изображение и «выражение» используются в данном контексте у Шиллера как синонимы.) Шиллер подчеркивает, что речь идет не о возбуждении идей, зависящих от случайной их ассоциации, – «ибо она произвольна и недостойна искусства», но о необходимо совершающемся «по законам символизирующего воображения». Разум ищет такие явления, которые не случайны и подчиняются собственным (практическим) правилам, например постоянство, с которым линии сочетаются в пространстве или звуки во времени. Он стремится согласовать эти правила со своим поведением и рассматривает такие явления «как символ его собственных действий». «Милая гармония образов, звуков и света, восхищающая эстетическое чувство, одновременно удовлетворяет и моральное; она есть естественный символ внутреннего согласия духа с самим собою… и в прекрасной стройности пейзажа или музыкальной пьесы вырисовывается еще более прекрасный строй нравственно устремленной души».
В искусствах, где имеется лишь «форма изображения» (например в музыке), строго говоря, нет еще выражения идей. Они «только располагают душу к известной впечатлительности и восприятию известных идей: заполнение этой формы содержанием они предоставляют воображению слушателя и зрителя». Напротив, у поэта есть преимущество: сопроводить чувствование текстом и таким образом «поддержать символику воображения содержанием и сообщить ей более определенное направление». Но и поэт должен лишь «намекнуть на эти идеи», ибо привлекательность «таких эстетических идей» в том, что мы «вглядываемся в их содержание, как в некую бездонную глубину».
Продолжая дальше свою мысль, Шиллер обнаруживает, что он по – иному интерпретирует глубокую мысль Канта и Гете в вопросе об «эстетической идее» и «символе». У этих мыслителей «бесконечность», связываемая с этими понятиями, не носит субъективного характера и вовсе не зависит только от воспринимающего. Позиция Шиллера другая: «Действительное и отчетливое содержание, вкладываемое поэтом, всегда остается конечным, возможное содержание, которое он предоставляет вложить нам, есть величина бесконечная»[626].