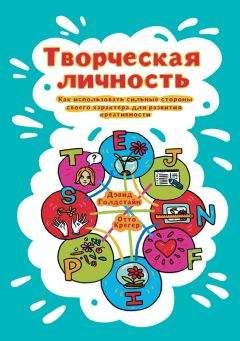Л.Н. Толстой в «Детстве» (гл. XIV) описывает первую разлуку с родными.
«Наконец, все встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обнял maman и несколько раз поцеловал ее.
– Полно, мой дружок, – сказал папа, – ведь не навек расстаемся.
– Все-таки, грустно! – сказала maman дрожащим от слез голосом. Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все и мне так стало грустно, больно и страшно, что хотелось бы лучше убежать, чем прощаться с нею. Я понял (подчеркнуто мною. – Е.Б.) в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с нами».
С большой долей правдоподобия можно утверждать, что автор понял это не в ту минуту – он был слишком маленьким, чтобы понимать такие психологические тонкости (даже принимая во внимание особую чувствительность будущего гения), а в другую, когда писал эти строки. Конечно, можно сказать, что Толстой-писатель просто выдумал все «из головы» (такие упреки в адрес Толстого встречаются, например, у Тургенева). Однако у настоящих художников процесс выдумывания, акт художественного открытия нового, совершается не «головным», рассудочным способом, а на основе эмпатии, что и делает выдумку психологически и художественно убедительной.
«Трудно написать, сделать или даже выдумать что-нибудь новое, – пишет К. Петров-Водкин. – …Очевидно, новое не ищется, оно у мастера рождается само собой, в порядке углубления работы и углубления самого себя этой работой». Толстой вживался в образ своего детского «Я» (Николеньки) и только вместе с ним (как Щукин вместе с Булычовым) впервые (открытие, новизна!) понял состояние матери при прощании.
В той мере, в какой воспоминание есть акт преобразования ситуации, т. е. преобразование «Я», значит и «не-Я», оно выступает как акт фантазии, как один из ее видов (Блонский и др.).
Создавая «образ автора», открывая в нем новые черты, художник вживается не только в образ своего прошлого «Я», но и в образы настоящего и будущего, желаемого «Я».
В современной психологии все эти образы получили название «образ Я» (см.: Кон И.С. Открытие «Я». – М., 1978). В нем художник видит себя многообразно: каким поставил себе целью стать; каким следует быть, исходя из усвоенных норм и образцов; каким приятно себя видеть; в виде маски, за которой можно скрыться и т. д. Вживаясь в разноликие образы, художник будет создавать художественные «образы автора», отличающиеся неповторимостью и новизной. Скульптор С.Т. Конёнков, характеризуя свой известный «Автопортрет», пишет: «Когда в тиши своей мастерской я работал над «Автопортретом», относясь к этому как к глубокому раздумью, я думал не только о портретном сходстве, я прежде всего хотел выразить свое отношение к труду и искусству, свое устремление в будущее, в царство постоянной правды и справедливости».
* * *
Мы рассматривали тот случай эмпатии, когда вживание автора в образ превращает последний в «Я-образ» и тем самым помогает ему самораскрыться, обнаружив новые черты. Теперь проанализируем другой случай, когда вживание в образ помогает автору сделать художественные открытия в отношении других объектов, других образов.
Можно сказать, что в таком случае творческая личность художника идентифицирует (отождествляет) себя не с объектами, а с другими субъектами творчества. Автор стремится занять в воображении их точку зрения, новую (для себя) точку зрения воображенного «Я».
С этим случаем эмпатии мы встречаемся в методе генерирования новых идей в науке и технике (синектике) американца В. Гордона. В ней основной процедурой считается «превращение знакомого в странное». При этом подразумевается, что человек преднамеренно становится на точку зрения, отличающуюся от общепринятой, вырабатывает в себе необычный взгляд на хорошо известные явления и предметы. И все это для того, чтобы попытаться заново увидеть хорошо знакомое. В сущности, о том же говорит авиаконструктор А.Н. Туполев, описывая творческий процесс рождения новой идеи: «Надо на вещи, на собственную работу мысли, взглянуть непривычным взглядом. Надо взглянуть чужими глазами, подойти к ним по-новому, вырвавшись из обычного, привычного круга».
Рассматриваемые явления в науке о художественном творчестве известны как «остранение» (термин В. Шкловского), или «очуждение» (термин Б. Брехта). Согласно В. Шкловскому, посредством «остранения» достигается перенесение предмета из его обычного восприятия в сферу нового восприятия, осуществляемого с новой точки зрения. Например, в «Холстомере» Л.Н. Толстого вещи увидены с персонифицированной точки зрения «лошадиного восприятия». Ученый приводит примеры (в книге «О теории прозы». – М. – Л., 1925) только из художественной литературы, но сами его утверждения могут быть отнесены к любому виду художественного творчества.
Благодаря эффекту «очуждения», пишет Б. Брехт, вещь «из привычной, известной, лежащей перед нашими глазами, превращается в особенную, бросающуюся в глаза, неожиданную». Мы начинаем понимать вещь «как нечто чуждое, новое, как конструктивное достижение…».
Проанализируем два главных варианта воображаемого перемещения автора.
Первый вариант: автор, оставаясь самим собой, может мысленно изменить свое положение в пространстве («топос» – пространство) или во времени («хронос» – время) или в том и в другом («хронотоп», по выражению М.М. Бахтина).
Второй вариант: автор не просто изменяет свой «хронотоп», но и мысленно занимает место «другого». Реально оставаясь самим собой, он в воображении превращается в «другого», взяв его за образец моделирования воображенного «Я».
Оба варианта эмпатии играют важную роль в технологии порождения нового.
Проиллюстрируем первый вариант.
Вспомним, как начинается роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»:
«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина».
И далее автор повествует об удивительных событиях, свидетелем (наблюдателем) которых он как бы являлся. Автор знает, кто были эти граждане, он видит, что «во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека», он слышит разговор («Дайте нарзану, – попросил Берлиоз. – Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась. – Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный»); он даже знает, что у Берлиоза внезапно сердце «стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось» и что он при этом подумал («Что со мной? Этого никогда не было… сердце шалит… я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск…»).
Вживаясь в образ всевидящего, всеслышащего и всеведающего свидетеля, автор с помощью фантазии свободно перемещается в пространстве и времени. Это позволяет ему «увидеть» и «услышать» то, что с позиции своего реального «хронотопа» он никогда бы не смог сделать.
А разве живописцы, например, Федотов, Суриков, Ге, Серов, смогли бы сделать свои художественные открытия, если бы не вживались в роль подобного свидетеля таких сцен, как «Завтрак аристократа», «Переход Суворова через Альпы», «Что есть истина?» (Христос и Пилат), «Выезд Екатерины II на охоту»?
Когда говорят в таких случаях о фантазии как могущественном инструменте создания новых образов, всегда следует иметь в виду составной компонент фантазии – эмпатию, преобразование реального «Я» в «Я» воображенное.
В наших примерах в роли свидетеля (наблюдателя) выступал как бы сам автор, поменявший лишь свой реальный «хронотоп» на воображаемый.
Со вторым вариантом эмпатии мы встречаемся тогда, когда роль свидетеля (наблюдателя) не совпадает с «образом автора».
Так, например, в художественной литературе (и в кино) встречается принцип повествования – сказ, когда свидетелем и даже участником является рассказчик. Через стилизацию монологического рассказа (от первого лица) воссоздаются типические черты социально-бытовой и индивидуальной характерологии героя-рассказчика. Таковы рассказчики «Вечеров на хуторе…» Гоголя, «Левши» Лескова, такова стилистическая маска М. Зощенко, сатирически пародирующая советского мещанина тех лет.
Но герои-рассказчики имеют не только (и даже не столько) самодовлеющее значение. Вживаясь в них, автор получает возможность по-новому осветить события, других персонажей и т. д.
В известном смысле можно сказать, что такого рода функции рассказчиков носят служебный, «технический» характер. Они помогают автору «остранить» себя, помогают взглянуть па мир и людей глазами «другого», «чужого» («очуждение»). Из истории европейской литературной прозы (см., например, об этом в статье И.Б. Роднянской «Автор» в «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1978. – Т. 9) известно, что в ней долгое время сохранялась фигура подставного автора (ср. мотив найденной рукописи). Подлинный же автор скрывается в маске «переводчика» или «издателя» (Сервантес – «переводчик» истории о Дон Кихоте, якобы записанной мавром Сидом Ахметом Бененхели; Пушкин – «издатель» повестей Ивана Петровича Белкина).