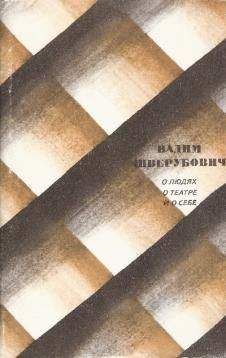Вл. Ив. разворачивал свое толкование с обстоятельностью, которая столь же оппонирует, сколько и соответствует волнению К. С.
«Разложение дела коренится в самом деле, в самом существе дела, в невозможности слить воедино несливаемые требования. Если попробовать написать 20, 30, 50, 100 пунктов наших желаний, попробовать ясно изложить на бумаге все, что, по нашему мнению, должно входить в состав нашего дела, включая сюда все подробности художественной стороны, материальной, этической и педагогической, – то легко видеть, что одна половина этих желаний враждебна другой. 50 одних желаний будут смертельно бить 50 других. И нет выхода! И не будет выхода!» Последние две фразы подчеркнуты.
То есть не будет одного, раз и навсегда спасительного выхода. «И вся моя ловкость [говоря о себе, Немирович находит это жесткое слово. – И. С.] как администратора заключается в том, чтобы вовремя дать движение одним требованиям и потушить на время другие и дать разгореться затем другим запросам в ущерб первым»[5].
В одном из писем у Немировича прорвалось признание: МХТ не так-то схож с театром, который увлекал его в замысле. Но к этому надо быть готовым. У созданного им со Станиславским живого театра свое независимое развитие.
Позади ноябрь 1908 года, МХТ справил десятилетие. Из актеров только двое старше пятидесяти, Москвину и Качалову меньше тридцати пяти, Германовой 24, Вере Барановской 23, Аполлону Гореву 21, Коонен 19. «Средний возраст» труппы, кажется, ниже тридцати. Но МХТ в его целостности – вызревшее дело. У него параметры большого театра на полном ходу, с образцовой администрацией, с великолепными спектаклями, с глубокой репертуарной линией; в нем хотят работать – хотят слишком даже горячо. За место в школе – толпа соревнующихся; не меньше народу, когда набирают в сотрудники, готовы служить безвозмездно. И так далее.
Создатели МХТ любили шутить, споря, кто отец, кто мать. Отношения Станиславского с их театральным сыном обострились рано.
«В театре я ненавижу театр». Фразу из записей Станиславского принято толковать как призыв освободить артистическую природу от искажающих ее ложных правил. Кто бы спорил. Такой посыл фразы несомненен. Все же стоит вникнуть в иные ее отзвуки.
Признание в ненависти открывает очередную (четвертую) крупноформатную книгу «художественных записей» (КС, № 545)[6]. Строка стоит одиноко. Через полстраницы рабочий (первичный) вариант отчета о десятилетней деятельности МХТ. Он на диво сокращен.
Затем идут записи о сценическом диалоге («слова произносятся для двух только целей: убедить другого в своей мысли или чувстве; убедить другого, чтобы этот другой сообщил его мысли и чувство… убеждающему лицу»), о сценической дикции, о ритме, о творческой воле.
Ход записей этого рода прерывается обозленными зарисовками репетиций (вот Горев вообще забыл, что она назначена. А ему играть Хлестакова). Актеры не фиксируют замечаний, дома над ними не работают; если выполняют, то формально, не проведя через себя. Режиссер обескуражен.
«Вялость воли… Книппер в первом акте „Вишневого сада“. Дают знак к выходу. Она делает паузу – просматривает ручки и кольца, потом собирается, начинает говорить и наконец двинулась. Чтоб не было ненужной паузы, мне приходится тащить ее из-за кулис» (это о сцене приезда: Гаев – К. С. выходит с Раневской – О. Л.). Досада – о ком бы конкретно ни шла речь, о «первых сюжетах» или о безымянном статисте. «Невнимание и несосредоточенность. В „Вишневом саде“ последний акт: мужик затворяет окно. Идет назад. Топает по полу. Не живет жизнью сада, не чувствует земли».
Следующая страница озаглавлена: «Заповеди». Их пятнадцать, первая – «Неси в театр крупные чувства и большие мысли, мелкие же оставляй у порога». Шестая: «Знай, что ты хочешь творить, и умей хотеть творить».
«Письмо к товарищам» идет сразу же за листом «Заповедей»: 22 пункта нарушения заповедей в повседневности МХТ.
Станиславскому предложили решить, вывешивать ли письмо в театре на общее обсуждение. Письмо не было вывешено. Как если бы К. С. согласился: справедливы или несправедливы его укоры в частных случаях, разложение – при корне.
Подчас кажется, что Станиславский вообще не принимал театры как вызревшее дело. Не любил образ жизни по нормам вызревшего дела.
Вскоре после создания МХТ, на пятом году их общих трудов Немирович заметил: если К. С. «спросит у своих тайных желаний», «тайные желания подскажут ему, что в какую бы форму ни выливался театр, для него, Алексеева, он прежде всего должен быть „мастерской художника Станиславского“. Вне этой задачи театр теряет для него интерес»[7]. В подтексте допущение: по ходу своей самоопределяющейся жизни МХТ может и разойтись с тем, что становится надобно «художнику Станиславскому».
Станиславский и раз и другой захочет дистанцироваться от своего театра, каким тот вырастает. МХТ огорчительное для него желание учился уважать. Так что на заседании правления 5 января 1912 года не стали вступать в спор, почему бы художнику Станиславскому не считать и дальше свой театр своей мастерской. Коль скоро ему потребна другая, не замедлили с его желанием согласиться.
Слова еще нет у Даля (Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. 1863–1866), но Тургенев уже пользовался им в романе «Накануне»: скульптор Шубин с дачи наезжает в Москву, «где у него была студия, куда приходили к нему модели и итальянские формовщики, его приятели и учители». Студия, то есть мастерская.
Излагая правлению новый план Станиславского, докладчик в январе 1912 года не касался опыта шестилетней давности. Тогда при ликвидации дела на Поварской Немирович-Данченко сожалел, что не успел остеречь Константина Сергеевича от его «грубейшей ошибки». У Станиславского, однако, сложилось иное отношение к пережитому на Поварской.
Пробуя в отчете периодизировать десятилетнюю историю МХТ, шестым он назвал «период нервных исканий». «Театр раскололся… Группа новаторов основалась в злополучную студию. Там было много странного для хладнокровного наблюдателя, быть может, было и смешное, но там было и хорошее, искреннее и смелое. Я пострадавшее лицо в этом неудавшемся предприятии, но я не имею права поминать его злом. Художественный театр тем более должен сохранить добрую память о своем покойном детище, так как он один разумно воспользовался результатами юных брожений».
Описав последующие годы («период разумных исканий»), автор «Отчета» заключал: «Десятилетие театра должно ознаменовать начало нового периода, результаты которого выяснятся в будущем.
Этот период будет посвящен творчеству, основанному на простых и естественных началах психологии и физиологии человеческой природы…
А потом, Бог даст, мы опять возобновим наши искания, для того чтобы путем новых эволюций вернуться к вечному, простому и важному в искусстве»[8].
Между временем, когда Станиславский произносил на публике свой ясный отчет (14 октября 1908 года), и временем, когда он обратился с Письмом к товарищам (28 ноября 1908 года) расстояние всего полтора месяца. Летопись не отмечает ничего такого, что объяснило бы перелом настроя, разве что строчки помрежа в дневнике репетиций «Ревизора» 20 октября: «в 2 ч. 45 м. репетиция была прекращена, так как К. С. Станиславский нашел недостаточным тот подъем духа, какой был сегодня у всех участвующих»[9] (нарушение заповеди шестой, по К. С., – «умей хотеть творить»). Что еще произошло в октябре?
В середине месяца в Москву на деловые переговоры приехал Гордон Крэг. С этой фигурой заочно уже связывали «возобновление исканий», личная же встреча была первой. Константину Сергеевичу сойтись с Крэгом оказалось нетрудно («скоро почувствовал, что мы с ним давнишние знакомые»[10]). Крэг 18-го смотрел недавно возвращенного в репертуар «Доктора Штокмана», 21-го – «Дядю Ваню», Станиславского оценил как лучшего актера лучшей в Европе труппы. Для определения его игры нашел слово «грация».
Грация, когда-то пояснил Чехов, в том, что усилий потрачено не больше, чем надо. На «Ревизора» тратились, потом опять застывало, опять тратились. Крэг пленил как вживе явленная противоположность: легкость, естественность подъема, увлекающая и сверкающая готовность к творчеству. Плюс то, что новый знакомец-гений свободен от какого-либо «театрального дела», знать не знает, что там балансируют.
У Немировича-Данченко есть необычное и небезопасное определение: Чехов – это «талантливый я». У Станиславского под конец 1908 года могло бы вырваться: Крэг – это свободный я. Я без сковывающих меня деловых театральных обязательств (высокорезультативных, благородных, никогда от них не откажусь, но ведь сковывающих же).
К тому же эти двое сошлись в своих притязаниях к исполнителям. В превосходном исследовании Аркадия Островского доказательно сближены идея Крэга («сверхмарионетка») и задачи «системы»: актер-«сверхмарионетка» вымечтан вовсе не как механизм, но как художник, у которого в руках нити, движущие собственное его творчество[11]. Как быть, если актеры, какие у нас имеются, не всегда таковы.