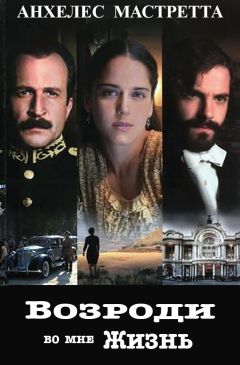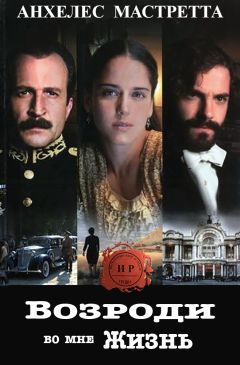— Рада, если это так, — ответила я.
— Ну разумеется, приятно быть этакой благодетельницей, которой все любуются, которую все любят. Как же этой женщине хочется, чтобы все ее любили!
Конечно, я хотела, чтобы меня любили. Я всю жизнь хотела, чтобы меня любили. А в вечер концерта — как никогда прежде.
Когда мы приехали, зал Галереи Изящных искусств был уже полон. Родольфо и Чофи шли впереди, отвечая на вопросы журналистов, которые так и вились вокруг. Мы подошли к президентской ложе, расположенной в центре зала. Все взгляды были прикованы к ней.
В соседних ложах расположились министры и их семьи. В партере сидели почетные гости и люди того сорта, которые издали кажутся совершенно счастливыми, сама не знаю почему.
Именно там, внизу, я сидела, когда впервые увидела Карлоса. Там я была бы ближе к нему, и он мог бы меня видеть.
Со сцены доносились звуки настраиваемых инструментов. Музыканты были в черных костюмах, начищенных до блеска ботинках, с гладко зачесанными волосами. Как они были не похожи на себя прежних, какими я увидела их впервые — растрепанными, в разноцветных рубахах, старых ботинках и лоснящихся брюках. Теперь же, такие ухоженные, но совершенно одинаковые, они казались фальшивыми. Ведь на самом деле они были столь же разными, как их инструменты. Наконец, появился Карлос — во фраке и галстуке-бабочке, с безупречно уложенными волосами и дирижерской палочкой в руке. Под гром аплодисментов он направился к пульту, затем повернулся лицом к залу и поклонился публике.
— Ну какой же клоун этот Вивес, — сказал Андрес.
Меня он растрогал. Мы сели, Карлос взмахнул руками, и полилась музыка.
Когда закончилось первое отделение, весь театр взорвался аплодисментами. Казалось, зал рукоплещет самому Богу. Я же застыла, глядя себе под ноги.
— Что с тобой происходит, Катин? — спросил Андрес. — Или тебе не нравится? Почему у тебя такое лицо, словно ты вот-вот родишь?
— Конечно, мне нравится, — сказала я. — Вивес действительно хорош.
— С чего ты взяла, что он хорош? Я вот, например, и понятия не имею. Я впервые присутствую на таком концерте. Мне всё это кажется слишком наигранным. От уличных музыкантов хотя бы не клонит в сон.
Мы вышли из ложи, чтобы выпить по бокалу вина и поговорить. Чофи прямо-таки сияла, гордая открытием, которое сделал ее муж.
— Он настоящий гений, — говорила она женам министров, сгрудившимся вокруг нее, как цыплята вокруг наседки. На ней был один из тех ужасных меховых палантинов, украшенных лисьими головами. Из-за него ее плечи казались слишком узкими, руки — короткими, а грудь — прямо-таки необъятной. Пока она на все лады расхваливала Вивеса, лисьи головы елозили по ее соскам.
От эйфории она раскраснелась. Тогда она раскрыла веер и принялась гонять ветер над своими мехами. Как будто нельзя их просто снять. Остальные женщины восхищенно закивали.
— Бесподобно! — воскликнула супруга министра внутренних дел.
— Просто грандиозно! Надеюсь, вы все со мной согласитесь, — ответила супруга министра финансов, залившись смехом. — Это та качественная музыка, которой нам всем недостает.
Остальные рассмеялись вместе с ней.
— Но эта музыка воистину великая, — закатив глаза, заявила жена министра иностранных дел. Дочь одного чиновника из прежнего правительства, сохранившего свою власть, в вопросах мировой культуры она всегда смотрела на нас, как на новичков. Ведь у нее-то отец был послом, и «всё детство она провела во Франции».
— Да, это великая музыка! — заявила Чофи, сжимая в объятиях своих лис.
К счастью, антракт наконец закончился. Просто ума не приложу, как министры Родольфо могли жениться на этих глупых курицах.
Второе отделение концерта было грустным-прегрустным и длинным-предлинным, казалось, что музыка вот-вот закончится, но когда наконец наступил финал, он выглядел будто проклятье. Та музыка, что заставляла меня подниматься по ступеням, что звучала у меня в голове, которую я не могла напеть, потому что боялась.
Первые двадцать минут Андрес отчаянно боролся с дремотой, потом начал о чем-то шептаться с Фито.
А я неотрывно смотрела на Карлоса — на его спину, взлетающие и падающие руки, на его ноги. Я смотрела на него так, словно он сам был музыкой, словно я не болтала и шутила с ним на глазах у Андреса во время обеда. Теперь это был совсем другой человек, не похожий на всех нас, словно явившийся из другого мира.
— Этому сеньору Малеру явно нужна женщина, — прошептал Андрес, наклоняясь к моей шее.
Несколько раз кто-то пытался зааплодировать, посчитав, что грохот ударных предвещает финал, но музыка начиналась снова, затихая так, что ее почти не было слышно, оставался лишь шепот, к которому чуть позже присоединялась скрипка, затем виолончель, а потом и остальные инструменты, оглушая публику. Поэтому, когда и в самом деле наступил финал, лишь я, прослушавшая симфонию много раз, знала, что пора аплодировать, и захлопала в одиночестве.
Я прервала разговор Андреса и Фито, а Чофи, клевавшая носом, встрепенулась. Они захлопали, а вместе с ними и вся публика.
Карлос опустил руки и замер перед оркестром; затем повернулся лицом к залу, и я наконец смогла увидеть его лицо с упавшей на лоб челкой, почти закрывавшей глаза. Он поклонился, сошел с подиума и исчез за кулисами.
Пока все аплодировали, мне так хотелось услышать его слова: «Кто кого угощает мороженым?». Он снова появился, указал жестом на оркестр и поклонился, согнувшись почти пополам.
Он действительно великолепен, думала я. Эти глупые курицы правы. И это они еще не разговаривали с ним, не гуляли с ним по Мадеро, и он не оскорблял их посреди улицы.
Я продолжала аплодировать, как и все остальные, как вопил Андрес 15 сентября, в День независимости.
— Всё-таки генерал Вивес произвел на свет нечто стоящее. У этого парня есть задатки политика, иначе он не сорвал бы такие аплодисменты. Вы только поглядите, похоже, это было главное выступление в его жизни. Теперь он больше тебе не принадлежит, — сказал он Фито, покатившись от хохота.
— Вивес, Вивес, Вивес, — выкрикивала публика, а музыканты аплодировали или постукивали смычками по пюпитрам.
Из боковой двери вышел Вивес, опять идеально причесанный.
И снова при его появлении аплодисменты стали громче. Он взошеля на дирижерский подиум, поднял руки, чтобы музыканты встали, и повернулся к нам, снова поклонившись, так что его голова чуть не коснулась пола.
— Он точно станет хорошим политиком, — сказал Андрес. — Превосходный актер. Как жаль, что мы не можем использовать такой же подиум, это произвело бы эффект. Ты что, так не считаешь, Тюфяк? — спросил он Фито. Ты только погляди на женщин, они словно обезумели. Если пообещаешь дать женщинам право голоса, я, пожалуй, попробую порепетировать с этим подиумом. В парламенте как раз лежит проект закона, который никогда бы не подписал Агирре. Уверяю тебя, они проголосуют, а если я буду выступать с такого подиума, то стану президентом, и никто и слова не скажет, что это дурной тон, поскольку я твой кум. А как меня выдвинут, на следующий же день назначу Вивеса председателем партии, и пусть катается по всей стране со своим оркестром. Как тебе это, Катин?
Вивес скрылся и вновь появился уже в пятый раз, оркестр садился и вставал, но публика не переставала аплодировать. В особенности женщины. Дамы в соседних ложах, приятельницы Чофи, хлопали так, словно были его любовницами.
— Нам пора, — сказала я Андресу. — Поздравим его за ужином, а сейчас — это уже чересчур.
— И я о том же, он же не тореро. А выглядит так, будто только что рисковал жизнью, — отозвался Андрес.
— Не уходите, — попросил Родольфо, совершенно не умеющий приказывать. — Я не могу вести себя так грубо.
— Ты — может быть, зато мы — очень даже можем, — ответила я.
— Но вы же наши родственники, — напомнила Чофи, которая всегда относилась к родственным отношениям со всей серьезностью.
Тем временем Вивес вернулся на сцену почти бегом, поднялся на подиум и головой и руками одновременно подал знак оркестру, не обращая внимания на аплодисменты. Словно сказал им: «А теперь все одновременно, с двадцать четвертого такта». Только теперь мелодия была из тех, что я могла напевать, как будто ее заказал мой папа. Даже не знаю, сколько раз по утрам я ее слышала, иногда он останавливалась в дверях спальни и насвистывал эту мелодию, пока мы не высовывали головы из-под простыней, проклиная солнце и отца, вечно встававшего спозаранку.
Но папы здесь не было, он не мог мне спеть, и мне некому было пожаловаться по совершенные ошибки, не у кого спросить, что делать с тем желанием, которое начинало во мне разгораться.
Оркестр превратился в насвистывающего по утрам папу, я так остро почувствовала его отсутствие, будто что-то вселило в меня уверенность — его слова и объятья исчезли навсегда, не осталось ничего, кроме воспоминаний, лишь упрямая ностальгия, и я разрыдалась, всхлипывая так громко, что чуть не заглушила оркестр.