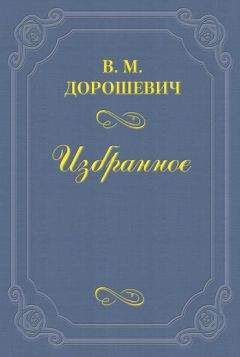БУРМИН. И что же?
МОЛОДЦОВ. (Усмехается.) А далее туман. Роман их разрешился при весьма странных обстоятельствах. Барышня эта сильно заболела и родители ее решили, будто б причиною тому этот поручик. Чтобы не испытывать судьбу, дали согласие на их брак. Но получили от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. В общем, странный тип…
БУРМИН. А дальше?
МОЛОДЦОВ. А после он исчез. Говорят, несколько месяцев спустя было его имя в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородиным. А еще позже среди умерших в Москве накануне вступления французов. Так что, с одной стороны дорога как бы и свободна, но с другой — все, кто отваживается ступить на нее, натыкается на призрак бедного поручика. Вот и ты, Бурмин, обязательно столкнешься с ним, с этим призраком.
БУРМИН. Есть и другие призраки на этой дороге.
МОЛОДЦОВ. О таких не ведаю.
БУРМИН. Уверяю тебя, есть.
МОЛОДЦОВ. Ну, вот видишь, ты и сам уверен в несостоятельности твоей затеи. По сему — лучше отказаться от нее.
БУРМИН. Поверь мне, нет никакой затеи.
МОЛОДЦОВ. Тем лучше.
БУРМИН. Лучше?
МОЛОДЦОВ. Ну да, лучше. На сегодня намечается неплохая партия. Видишь тех двух прелестных созданий?(Кивает в сторону девиц, которые ранее были рядом с Марьей Гавриловной.)
БУРМИН. Вижу.
МОЛОДЦОВ. Так вот. Они не имеют ничего против, чтобы сегодня устроить поэтический вечер в моем поместье.
БУРМИН. И что же требуется от меня?
МОЛОДЦОВ. Ты меня поражаешь, Бурмин!
БУРМИН. Нет, право я даже не догадываюсь о смысле твоих намеков.
МОЛОДЦОВ (смеётся.) Хитрец! Каков хитрец!
БУРМИН. Помилуй, это правда.
МОЛОДЦОВ. Вот дьявол! Ты сущий дьявол, Бурмин!
БУРМИН. Но говори же!
МОЛОДЦОВ (перестал смеяться, настороженно смотрит на Бурмина.) Ты не шутишь?
БУРМИН. Нет же.
МОЛОДЦОВ. И рука у тебя не болит?
БУРМИН. Нет.
МОЛОДЦОВ. Тогда я совсем не понимаю тебя…
БУРМИН. Но говори же.
МОЛОДЦОВ. Мне нужен компаньон.
БУРМИН. Ах, вот в чем дело. Так бы сразу и сказал. А то напустил туману, понимаешь.
МОЛОДЦОВ. Ну… Твой ответ.
БУРМИН. (долго не отвечает.) Пожалуй… пожалуй, я откажусь
МОЛОДЦОВ. Что?
БУРМИН. Не гневайся, брат, но сегодня я — пас.
МОЛОДЦОВ. Это все из-за той мрачной особы?
БУРМИН. С чего ты взял? Нет.
МОЛОДЦОВ. Тогда отчего?
БУРМИН. Просто я устал и хочу отдохнуть. Возьми кого-нибудь другого. Соколова, к примеру
МОЛОДЦОВ. Хромого?!
БУРМИН. Ну да, а чем он плох?
МОЛОДЦОВ. Не издевайся, Бурмин!
БУРМИН. Прости.
ПАУЗА.
МОЛОДЦОВ. Так ты идешь?
БУРМИН. Нет.
МОЛОДЦОВ (разозлившись.) Ты глуп, как младенец. (Поворачивается, чтобы уйти.)
БУРМИН. Прости, Молодцов…
МОЛОДЦОВ. К черту… (Уходит.)
БУРМИН. (оставшись один, вслух.) Может быть, нужно было согласиться, раз уж все равно столь грозные призраки стоят на нашей дороге… Хотя… Хотя прав Молодцов. К черту…
ТЕМНОТА
Гостиная в доме ныне покойного Гаврилы Гавриловича. Окна распахнуты. За ними белый, цветущий, яблоневый сад. Укрывшись в свадебных кружевах деревьев, сладкоголосые соловьи нежно трогают сердца своих подруг, исполняя на своем птичьем наречии свои странные птичьи романсы. Все вокруг цветет, искрится, благоухает. И это благоухание вероломно вползает в гостиную через распахнутые окна, крадется по полу, струится по стенам, заполняет собой каждый уголок, каждую щель, обволакивает каждый предмет, околдовывает каждого обитателя.
В центре гостиной стол, за которым Марья Гавриловна, Прасковья Петровна и Бурмин. Только что отобедали и наступила та самая решительная минута, когда-либо переходят к активным действиям, либо откланиваются.
БУРМИН. (прочистил горло.) Пожалуй, мне пора…
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Как? Уже? А чай? Вы же еще не отведали чаю.
БУРМИН. Давайте, отложим чай на другой раз.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Нет… И речи не может быть об этом. Без чаю я вас не отпущу.
МАША. Маменька, будьте милостивы, не принуждайте человека.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я никого не принуждаю. Владимир Владимирович, вы выпьете с нами чаю?
БУРМИН. Выпью, пожалуй.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Вот видишь, Маша, Владимир Владимирович хотят чаю. А ты могла лишить его этого удовольствия.
МАША. Простите, Владимир Владимирович.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Так я пойду и приготовлю?
МАША. Вы?!
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я. А что?
МАША. Но вы же, маменька, никогда не готовили чай.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Готовила… Всегда готовила.
МАША. Не обманывайте, маменька.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Господь с тобой, Маша, разве я обманывала тебя когда-нибудь?
Маша не отвечает.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Так я пойду?
БУРМИН. Идите, Прасковья Петровна.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Маша, займи гостя.
Уходит, бросив на прощание короткий взгляд Бурмину.
Маша и Бурмин долго молчат, смотрят в пол.
В небе за окном облако наплывает на солнце. Становится темнее. Птицы в саду смолкают.
МАША. Зачем вы пришли?
ПАУЗА.
БУРМИН. Не знаю… Что-то в вас заставило меня…
МАША. Что именно?
БУРМИН. Не могу сказать… я… у меня… мне кажется, что мы с вами когда-то встречались, может быть, в прошлой жизни. На Востоке верят, что после смерти души не обретают райского блаженства или адских мук, а воплощаются в новые формы, в новые существа.
МАША. Я верю в райские блаженства и, в особенности в адские муки.
БУРМИН. Да, да… я тоже.
МАША. И все же, зачем вы пришли?
БУРМИН. Не знаю…
МАША. А может быть, знаете. Может быть, вы пришли, чтобы восторжествовать над печальной верностью девственной Артемиды. Вам ведь известна моя история.
МОЛЧАНИЕ.
Известна?
БУРМИН. Известна…
МАША. Тогда какие же ужасные помыслы вас принесли сюда?
Бурмин молчит.
Отвечайте, Господи!
БУРМИН. (встает.) Мне лучше уйти. Мое присутствие расстраивает вас, Передайте Прасковье Петровне мои извинения.
МАША (хватает его за руку, потом, словно ошпарившись, отпускает.) Стойте!
Бурмин замирает.
Прошу вас, не уходите. Я не знаю, что со мною. Все это как долгий, бесконечный кошмарный сон. Вы сказали, что знаете мою историю. Но вы не знаете ее. Никто не знает. Даже я сама. Порою мне кажется, что мое воспаленное воображение всего лишь выдумало ее. Но, увы, это правда. Жестокая холодная правда. Правда, которая делает меня несвободной ни для вас, ни для кого бы то ни было. Правда, которая сидит вот здесь, в моем сердце, в моей голове и даже там, на небе, и которая убивает меня. Убивает медленно, как проказа.
БУРМИН. Я не понимаю вас, Марья Гавриловна.
МАША. И не нужно, Господи! Но вы же почувствовали что-то? Вы же сказали…
БУРМИН. Я почувствовал это еще на балу.
МАША. Боже мой! Боже мой! Три года… три года с замиранием сердца я ждала этой страшной минуты! Три года я мучилась от мысли, что когда придет то самое, настоящее, мне придется сказать…
БУРМИН. Молчите, прошу вас…
МАША. … Но мне придется.
БУРМИН. Почему же, Господи?!
МАША. Не спрашивайте.
БУРМИН. Но…
МАША. (Шепотом.) Не спрашивайте, умоляю! Не спрашивайте…
МОЛЧАНИЕ.
Дайте мне вашу руку.
Бурмин протягивает здоровую ладонь. Маша бережно берет ее двумя руками.
У вас сердце стучит громко и взволнованно. Вот здесь, прямо между пальцами. Значит, вы живой, настоящий… И руки у вас живые. С сердцем и душою. Как маленькие человечки. И они также как мы мучаются и страдают, когда не могут прикоснуться к чему-то такому же, живому и настоящему. Вот как другая ваша рука, она не может этого сделать, потому что перевязана, от того и болит. Точно такая же преграда и между нами. Черная и бесстрастная, как эта материя.