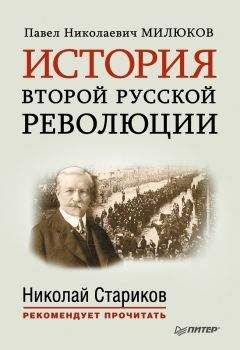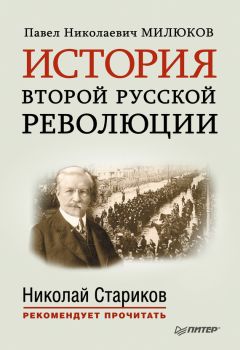В соседней камере Григорьев поглядел на часы, встал, вышел в коридор и начал отпирать камеру Лунина. Дверь камеры отперта. В темноте на пороге Григорьев.
Лунин. «А, здравствуйте, господа! Нагрянули! Входите! Простите, что принимаю вас в кальсонах, соснул после охоты, но ведь и вы ко мне без предупреждения».
Григорьев. Полно, полно, Михаил Сергеевич!
Лунин. «А почему же полно? И что вы глазеете на стену, господин жандармский майор… Да! Там висит мое ружье — я ведь охотник! Васильич! Сними ружье! Господа боятся ружей — они привыкли только к палкам! А теперь позвольте, господа, я надену штаны и готов проследовать за вами на предмет получения пули в лоб». (Хохочет.)
Григорьев (почти кричит). Михаил Сергеевич, да опомнитесь! Да что вы опять такое говорите! Свечу-то зажгите.
Лунин (опомнился, устало глядит на него). А-а… (Улыбнулся, растерянно.) Я обознался… Впрочем, нет! Как же я забыл про тебя! При сокращении дробей я забыл еще об одном: Каин, Авель, Кесарь, Мария… но в моей жизни был еще жандарм. Как хорошо, ты успел напомнить. Да, в моей жизни был всегда жандарм! Дурак при губернаторе, министр при царе, а Лунин — всегда при жандарме! Какова шутка!
Григорьев. Шутить время вышло, Михаил Сергеевич, ребятки уже за стеной — готовятся.
Лунин. Так, поди, четверть часа осталось.
Григорьев. Десять минут, сударь. Но вам и приготовиться нужно, и свечу зажечь, и улечься…
Лунин (с усмешкой). Действительно, приготовиться надо. Дорога ведь дальняя!
Григорьев. Значит, часы отзвонят три — ребятки и войдут.
Григорьев возвращается в камеру к Баранову и Родионову. Нервность его возрастает, и он уже не может сидеть. Он все быстрее и быстрее ходит взад и вперед по камере. А рядом — молится Священник.
Лунин задувает огарок и медленно зажигает новую свечу. Ставит ее у постели.
Лунин. Значит, и вправду… я на плахе… Быстро… (Смешок.) И вот на плахе Хозяин и Жак обменялись последними шутками. Шутка Хозяина: он не убил Жака сразу, но подвергнул заключению в ужаснейшей из тюрем.
Первый мундир. В строжайшей из тюрем.
Лунин (Ей). А в империи… тюрьму ценить умеют… Акатуй, туман, слякоть. Они ждали, что разум мой здесь угаснет! Что я сгнию здесь… и главное — тихо сойду в безвестность. (Смешок.) Но Жак тоже пошутил в ответ. Я надеюсь, господа, вы оцените мою потребность шутить в разнообразнейших обстоятельствах? Ну, читайте же, сударь! (Смешок.)
Первый мундир. Государь, нами снова были перехвачены возмутительные письма государственного преступника Михаила Лунина, хотя писать ему в тюрьме строжайше воспрещено было… Прочитавши их, я вынужден предложить Вашему величеству предпринять крайние меры к государственному преступнику Михаилу Лунину.
Лунин. А это была всего лишь шутка. Не тайна, но именно шутка: я переписал речи добродушнейшего старца Сократа и рассылал их от своего имени… И за тысячелетние слова афинского философа… исполнят то, что… (Он погружается в свою больную задумчивость. Потом вздрагивает и произносит тихо.) За дело… Пора… (Он подходит к кровати и ложится.) И все?.. Как просто… Обнимемся, Волконский… Обнимемся, Фонвизин… Обнимемся, Пущин… и друг Завалишин. (Помолчав.) И ты, Пестель… Во все дни человеческие… во времена надругательства — и креста — всегда находится тот, кто говорил: нет… В этом был смысл… (Засмеялся.) И тайна… Ах, как бьет барабан! Как оглушительно… Не надо мне завязывать глаза. Это — жмурки… Это няня прикрыла мне глаза руками… чтобы не попало мыло, и мое детское тельце…
Бьют часы.
Я чувствую единение с Сущим! И дух мой блуждает по пространствам и доходит до звезд!.. Я свободен.
Дверь распахивается. На пороге двое убийц, за ними Григорьев. Они медленно идут к кровати.
(Ей.) Твой черед. Я иду к тебе!
Она приближается к нему из темноты, одновременно с убийцами.
На тебе тафтяное черное платье… и твой взгляд блуждал по изгибам шитья моего доломана… В окно я завидел Вислу. Ее воды бурлили под набежавшим ветром… Но вокруг нас была тишина, так отличная от беспокойства в природе. Неожиданно звук колокола потряс эту тишину. Звонили к вечерне, надо было прощаться… И тогда ты склонилась ко мне…
Она наклоняется над ним.
Я вижу! Боже мой! После стольких лет снова твое лицо! (Кричит.) Я вижу!
С воплем один из убийц бросается к кровати и хватает Лунина за горло. Безумный крик второго убийцы и Григорьева. В дверях за Григорьевым появляется бледное лицо Священника. И все обрывается. Темнота.
А потом свеча вспыхивает и освещает на мгновение женское лицо. И снова темнота и тишина. В тишине — хриплый смешок. И молчание… Потом зажигают свечи. Это в соседнюю камеру вошел Писарь. Писарь вынимает дело, раскладывает его на столе, бормоча, диктует себе и пишет.
Писарь. «После досмотра на теле скоропостижно умершего государственного преступника Лунина обнаружены были: чулки шерстяные — одна пара, порты кожаные — одни, кальсоны теплые — одни, рубашка кожаная — одна, шуба беличья — одна, платок черный шейный — один, распятие нательное серебряное — одно; кроме того, в камере найдены были часы настенные — одни, альбом сафьяновый с бронзовыми застежками — один, портрет мужской настенный — один и тридцать листов писчей бумаги, исчерканных отрывистыми словами и непонятными знаками».
В полдень над городом нависло страшное июльское солнце. Сквозь распахнутые окна лилось оно в некую комнатку, на фотографии, развешанные по стенам. На фотографиях этих запечатлены были весьма забавные сцены: например, молодой человек целовал юную особу и сам же (!) из-за спины особы грозил себе пальцем; или зрелый мужчина и зрелая особа предавались поцелуям — и уже зрелый мужчина, воспарив над собою, — укоризненно грозил себе же пальцем; или печальный брюнет здоровался с самим собою, но уже с лицом самым развеселым. Под всеми этими художествами торчала рекламная полоска с надписью: «Двойное фото. Заказы принимаются на 25-е».
Комнатка с фотографиями была какая-то бездонная. Хотя солнце било прямыми лучами и окна были раскрыты — в конце комнатки царил густейший полумрак. И тут, в полумраке, начинались подвохи: в багетных рамах были выставлены гигантские фотографии женщин в натуральную величину. И то ли из-за неясности света, то ли из-за размеров, — но казалось, будто в рамах стоят отнюдь не фотографии, а самые что ни на есть натуральные женщины. Таково было это помещеньице, залитое полуденным солнцем.
И вот в нем, за письменным столом, у окна, потонув в солнечных лучах, — сидел добродушнейший субъект. Русоволосый, ясноглазый, румяный, моложавый, но как-то ненадежно моложавый. Перед ним, прямо на столе, возвышался огромный портфель. Субъект был погружен в раздумье.
Застрекотал телефон… Как приговоренный, субъект горестно вздохнул и поднял трубку:
— Алло.
В трубке засмеялись, а потом кто-то развязно спросил:
— Это фотография?
— Она самая, мужчина.
— Товарища Лепорелло можно к телефону?
Субъект за столом вытер пот со лба и сказал:
— Вы, видимо, просите соединить вас с Леппо Карловичем Релло? (В трубке молчали.) А по какому вопросу, поинтересуюсь?
Голос в трубке. А — по личному.
Субъект. Но Леппо Карловича нету!.. У него совещание по багету, а прием по личным вопросам с двух до пяти на той неделе… Вас записать?
Голос в трубке. Странно. Я, например, занимаюсь личными вопросами три тысячелетия и все решить их не могу. А ему с двух до пяти достаточно!.. Может, он у нас не лакей, а гений?! (Голос захохотал, а потом добавил грубо.) Ну вот что, морда, передай ему, чтобы приходил к двум сегодня в ЦПКиО. Ждут его!
Гудки в трубке.
— Он… он, — застонал субъект.
Городской парк в два часа дня. Тусклое солнце висит над рекой, но нет прохлады от реки. Где-то играет музыка между чахлыми деревьями, и где-то, наверное, людно, празднично. Но здесь, в каком-то выморочном уголке парка, только пустая раскаленная асфальтовая площадка, и никого. Кому нужна эта бессмысленная площадка? Все устремились туда, в чахлые кущи, в тень. Здесь, на этой площадке, и появился человек. Он вышел на ходулях, он был одет в камзол и длинный плащ, драпировавший его ходули. Но в тот субботний день такой наряд мог и не показаться странным, ибо в парке происходил карнавал. И действительно, человек на ходулях остановился, достал из-под плаща мегафон и равнодушно прокричал свои объявления: «В семнадцать тридцать на массовом поле откроется бал-маскарад «Юность твоя и моя». В двадцать часов на веранде танцев вечер из цикла «Разрешите с вами познакомиться». А в зеленом театре цирковое представление «Летние узоры». В это время с тележкой с мороженым показалась хорошенькая женщина. Она остановилась, взглянула на человека на ходулях и заулыбалась, как улыбаются при виде клоуна.