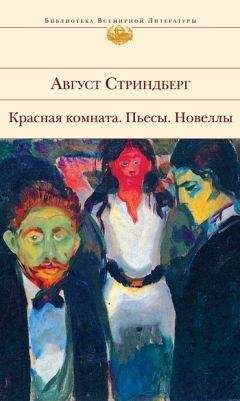Август Юхан Стриндберг
Фрекен Жюли
Предисловие к «Фрекен Жюли»
Театр, как и Искусство вообще, давно уже представляется мне своего рода Biblia Pauperum, Библией в картинках для тех, кто не умеет читать, а драматург – светским проповедником, распространяющим современные идеи в популярной форме, в такой степени популярной, чтобы средний класс, в основном и посещающий театр, сумел бы, не ломая себе особенно голову, понять, о чем идет речь. Поэтому театр всегда был народной школой для молодежи, полуобразованных людей и женщин, еще сохранивших низшую способность обманывать самих себя и позволять себя обманывать, то есть питать иллюзии, воспринимать внушение со стороны писателя. Поэтому в наше время, когда рудиментарное, неполноценное мышление, питавшееся фантазией, судя по всему, дошло в своем развитии до стадии рефлексии, исследования, эксперимента, мне кажется, что театр, наравне с религией, находится на пути к исчезновению, как вымирающая форма искусства, для наслаждения которой у нас нет требуемых условий; в пользу такого предположения свидетельствует глубокий кризис театра, поразивший всю Европу, и в не меньшей степени то обстоятельство, что в культурных странах, давших миру крупнейших мыслителей современности, а именно в Англии и Германии, драматургия мертва, как и большинство других изящных искусств.
В остальных же странах вообразили, будто можно создать новую драму, наполнив старые формы современным содержанием; но, во-первых, новые идеи еще не успели стать настолько общепринятыми, чтобы публика смогла понять, о чем идет речь; во-вторых, партийные распри так накалили чувства, что не оставили места чистому беспристрастному наслаждению там, где говорят противоположное твоим внутренним убеждениям и где аплодирующее и свистящее большинство давит на тебя своим мнением настолько открыто, насколько это вообще возможно, – то есть в театральном зале; и в-третьих, не возникла еще новая форма для старого содержания, посему новое вино взорвало старые бутыли.
В настоящей драме я не пытался создать нечто новое, ибо это невозможно, а лишь хотел осовременить форму в соответствии с теми требованиями, которые, по моему мнению, люди новой эпохи должны бы предъявлять к этому виду искусства. И с этой целью я выбрал или позволил себе увлечься темой, лежащей, можно сказать, вне партийных распрей сегодняшнего дня, поскольку проблемы социального возвышения или падения, высокого и низкого, хорошего и плохого, отношений мужчины и женщины всегда вызывали, вызывают и будут вызывать неизменный интерес. Взяв этот сюжет из жизни в том виде, в каком мне его рассказали несколько лет тому назад, когда описываемое событие произвело на меня сильное впечатление, я счел его подходящим для трагедии; ведь гибель счастливого человека, а тем более целого рода, пока еще воспринимается трагично, хотя, возможно, наступят времена, когда мы так далеко уйдем вперед в своем развитии, станем настолько просвещенными, что будем равнодушно наблюдать за грубой, циничной, бессердечной пьесой, предлагаемой самой жизнью, когда мы отключим эти низшие, ненадежные мыслительные аппараты, называемые чувствами, ибо они сделаются излишними и вредными после того, как им на смену придут органы рассудка. Сочувствие, которое вызывает у нас героиня, связано исключительно с нашей неспособностью противостоять чувству страха перед тем, что та же участь может постичь и нас. Однако сверхчувствительный зритель, вполне вероятно, не будет удовлетворен этим сочувствием, и передовой человек с убеждениями, возможно, потребует каких-то позитивных рецептов борьбы со злом, другими словами, какой-то программы. Но надо помнить, что абсолютного зла не бывает, ибо гибель одного рода – счастье для другого, получающего шанс возвыситься, и смена возвышений и падений составляет одну из самых притягательных черт жизни, поскольку счастье существует лишь в сравнении. А человека с программой, желающего устранить то печальное обстоятельство, что хищная птица поедает голубя, а вошь поедает хищную птицу, я хотел бы спросить: зачем его устранять? Жизнь не устроена по идиотской математической схеме, согласно которой только большие поедают маленьких, – столь же часто случается, что пчела убивает льва или по крайней мере доводит его до бешенства.
В том, что моя трагедия производит на многих трагическое впечатление, виноваты эти самые многие[1], и, обретя со временем силу первых французских революционеров, мы, безусловно, будем радоваться, наблюдая, как в лесу вырубают гнилые, дряхлые деревья, слишком долго мешавшие другим, имеющим равное право на свой срок жизни, радоваться, как радуешься, видя смерть неизлечимо больного! Недавно мою трагедию «Отец»[2] упрекали за ее трагичность, словно бы тем самым требуя создания веселой трагедии; кругом вопят о радости жизни, и директора театров заказывают фарсы, как будто радость жизни заключается в том, чтобы валять дурака и описывать людей так, точно все они страдают пляской Витта или идиотизмом. Я нахожу радость жизни в сокрушительных, жестоких жизненных битвах, и для меня наслаждение состоит в том, чтобы что-то узнать, чему-то научиться. Поэтому я и выбрал случай необычный, но поучительный, одним словом, исключение, но исключение великое, которое подтверждает правило, что, наверное, оскорбит тех, кто предпочитает банальности. Немудрящие души оттолкнет и то, что мотивировка происходящего у меня неоднозначна и оценивается оно с разных точек зрения. Любое событие в жизни – и это, пожалуй, открытие! – обусловлено обычно целым рядом более или менее глубоко скрытых мотивов, но зритель, как правило, выбирает наиболее ему понятный или льстящий его умственным способностям. Совершено самоубийство! Неудачная деловая операция! – скажет бюргер. Несчастная любовь! – скажут женщины. Физический недуг! – скажет больной. Разбитые надежды! – скажет неудачник. Но, быть может, поступок был вызван всеми упомянутыми мотивами, а быть может, ни одним из них, и покойник скрыл истинную причину, выдвинув на первый план совершенно иную, дабы обелить себя в памяти потомков!
Трагическую судьбу фрекен Жюли я мотивировал множеством различных обстоятельств: врожденные «дурные» инстинкты матери; неправильное воспитание, данное девочке отцом; собственные природные свойства характера и влияние жениха на слабый, вырождающийся мозг; дальше – больше: праздничное настроение в Иванову ночь; отсутствие отца; ее месячные; уход за животными; будоражащее воздействие танцев; сумрак ночи; распаляющий воображение аромат цветов; и наконец, случай, столкнувший этих двоих в укромном месте, плюс дерзость возбужденного мужчины.
Таким образом, я не сосредоточиваюсь исключительно на физиологии, не углубляюсь фанатично в одну лишь психологию, не только обвиняю наследственность по материнской линии, не только возлагаю вину на месячные, не только пропагандирую «безнравственность», не только проповедую высокую мораль – это последнее я предоставил делать кухарке – за отсутствием священника!
Такое многообразие мотивов я ставлю себе в заслугу, ибо оно соответствует духу времени! А если кто-то меня в этом уже опередил, я ставлю себе в заслугу то, что не одинок в своих парадоксах, как обычно называют все открытия.
Что же касается обрисовки характеров, то я представил своих персонажей довольно-таки бесхарактерными по следующим причинам.
Слово «характер» с течением времени приобрело множественный смысл. Первоначально оно, пожалуй, означало доминирующую черту душевного мира, и его путали с темпераментом. Позднее для среднего класса это слово стало равноценно понятию «автомат»: то есть характером начали называть индивида с навсегда застывшими природными качествами или приспособившегося к определенной роли в жизни, одним словом, остановившегося в своем развитии; а того, кто постоянно изменяется, умелого навигатора по морю жизни, который плывет, не закрепив шкотов, пользуясь попутным ветром, чтобы затем вновь направить судно против ветра, прозвали бесхарактерным. В уничижительном смысле, разумеется, ибо такого человека слишком трудно заарканить, внести в реестр и держать под присмотром. Это буржуазное представление о неподвижности души было перенесено и на сцену, где всегда владычествовала буржуазность. Там характер превратился в раз и навсегда сформировавшегося господина, который был либо неизменно пьян, либо смешон, либо мрачен; и для характеристики персонажа достаточно было лишь придать ему какой-нибудь физический недостаток – изуродованную ступню, деревянную ногу, красный нос или чтобы он повторял выражения типа: «прелестно», «Баркис не прочь» и тому подобное. Такой упрощенный взгляд на человека существует даже у великого Мольера. Гарпагон[3] только скуп, хотя он мог быть одновременно и скупцом, и прекрасным финансистом, и отличным отцом, и хорошим членом муниципалитета, но главное, его «физический недостаток» исключительно выгоден как раз его будущему зятю и дочери, которые унаследуют его состояние, и потому им бы не следовало обвинять его, пусть им и придется чуточку подождать, прежде чем прыгнуть в постель. Поэтому я и не верю в элементарные театральные характеры, и натуралисты, знающие, насколько богат душевный мир, и ведающие, что «порок» имеет оборотную сторону, весьма напоминающую добродетель, обязаны бы опровергать такие авторские суммарные оценки людей – этот глуп, тот жесток, этот ревнив, тот скуп.