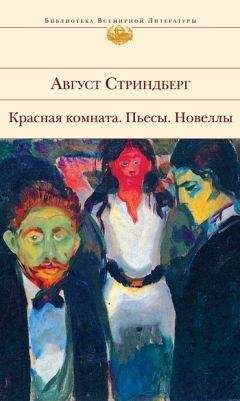Любовь в «высоком» смысле этого слова между двумя людьми со столь разными душевными качествами, как мне думается, невозможна, и потому у фрекен Жюли выдуманная ею любовь носит оттенок заступничества или извинения; Жан же полагает, что он был бы способен на любовь, находясь в иных социальных условиях. Мне кажется, что любовь напоминает гиацинт – чтобы дать жизнеспособный цветок, он сначала должен пустить корни в темноте. Здесь же он идет в рост, расцветает и дает семена почти одновременно и потому так скоро умирает.
И, наконец, Кристина – рабыня, полностью лишенная какой бы то ни было самостоятельности, отличается тупостью, приобретенной ею у кухонной плиты, по-звериному неосознанным лицемерием – переполнена моралью и религией, которые для нее играют роль прикрытия и козла отпущения, в чем более сильный человек не нуждается, поскольку сам способен нести свой грех или оправдать его! Она ходит в церковь, чтобы легко и просто переложить на Иисуса свои домашние кражи и получить новый заряд безгрешности.
Впрочем, она – второстепенный персонаж и потому сознательно обрисована схематично, точно так же, как я поступил с Пастором и Врачом в «Отце», ибо хотел изобразить обычных людей такими, какими в основном и бывают сельские пасторы и провинциальные врачи. И если эти мои второстепенные фигуры кому-то представляются абстрактными, то это обусловлено тем, что обычные люди, исполняющие какие-то профессиональные функции, вообще в определенной степени абстрактны, то есть несамостоятельны, и в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей открывают себя лишь с одной стороны, и до тех пор, пока зритель не почувствует необходимости увидеть их с разных сторон, абстрактность моего изображения довольно оправданна.
Наконец, что касается диалога, то тут я несколько нарушил традицию, избавив моих персонажей от роли учителей катехизиса[13], задающих глупые вопросы, дабы получить остроумный ответ. Я отказался от симметричной, математически выверенной конструкции французского диалога, допустив хаотичную работу мозга, так, как это и происходит в действительности, когда предмет разговора никогда не исчерпывается до дна, а одна мысль цепляется за другую совершенно произвольно. Поэтому и диалог блуждает вокруг да около, набирая в первых сценах материал, который потом перерабатывается, возвращается, повторяется, развертывается, дополняется, как тема в музыкальной композиции.
Действие достаточно насыщенно и, поскольку оно затрагивает, собственно говоря, лишь двух человек, я и сосредоточился на них, введя только одного второстепенного персонажа, кухарку, и позволив несчастному духу отца витать над всем происходящим. Ибо, как мне кажется, людей нового времени больше всего интересует психологический процесс, и наши любознательные души уже не довольствуются просто созерцанием происходящего, а требуют объяснений скрытых пружин! Нам ведь хочется увидеть ниточки, разглядеть механизм, исследовать двойное дно шкатулки, взять в руки волшебное кольцо, чтобы найти шов, заглянуть в карты, чтобы обнаружить, каким образом они краплены.
Образцом в этом случае мне служили монографические романы братьев Гонкур[14], которые я ценю выше других во всей современной литературе.
Если говорить о технических моментах композиции, то здесь я на пробу убрал разделение на акты. И сделал это, обнаружив, как мне думается, что антракты, во время которых зритель, получив время на размышления, ускользает тем самым от внушения писателя-гипнотизера, могут стать помехой нашей ослабевающей способности к иллюзии. Моя пьеса идет, вероятно, полтора часа, и если людям под силу столь же долго или еще дольше слушать лекцию, проповедь или съездовские дебаты, то я полагаю, что и полуторачасовой спектакль не утомит зрителя. Еще в 1872 году, в одном из первых своих театральных опытов, пьесе «Отверженный», я опробовал такую концентрированную форму, хотя и без особого успеха. Пьеса в пяти актах была уже завершена, когда я заметил, что она вносит в душу сумятицу и тревогу. Я сжег ее, и из пепла возник один-единственный переработанный акт объемом в пятьдесят печатных страниц на час игрового времени. Таким образом, форма не нова, но, похоже, ее открытие принадлежит мне, и не исключено, что она, благодаря изменчивым законам моды, имеет все шансы стать вполне соответствующей духу времени. В будущем мне бы хотелось видеть в зрительном зале публику, достаточно подготовленную, чтобы суметь высидеть целый одноактный спектакль, но это требует предварительного изучения. Однако для того, чтобы дать зрителям и актерам некоторую передышку, не выпуская при этом публику из плена иллюзии, я использую три художественные формы драматического искусства, а именно: монолог, пантомиму и балет, изначально характерные для античной трагедии, превращая монодию в монолог, а хор – в балет.
Монолог сейчас проклят нашими реалистами за его неправдоподобие, но если я его мотивирую, он будет правдоподобным, и, стало быть, я с успехом смогу его использовать. Когда оратор ходит в одиночестве взад и вперед по комнате и читает вслух свою речь, это ведь вполне правдоподобно, как и правдоподобно, когда актер громко репетирует свою роль, служанка разговаривает со своей кошкой, мать лопочет со своим малышом, старая мамзель болтает со своим попугаем, спящий говорит во сне. И чтобы хоть раз дать актеру возможность самостоятельной работы и на минуту освободить его от указки писателя, я не расписал монологи, а только обозначил их. Ибо, поскольку, в общем-то, не важно, чту говорится во сне или кошке, до тех пор, пока это не влияет на происходящее, талантливый актер, уже проникшийся определенным настроением и ситуацией, способен, вероятно, сымпровизировать монолог лучше, чем это сделал бы писатель, который не в силах заранее просчитать, насколько длинным и насыщенным может быть текст, чтобы суметь удержать публику в плену иллюзии.
Итальянский театр, как известно, на некоторых сценах вернулся к импровизации, создав тем самым актера-сочинителя, сочиняющего, однако, в соответствии с замыслом писателя, что, возможно, является шагом вперед или новым зарождающимся видом искусства, позволяющим говорить о созидающем искусстве.
Там же, где монолог был бы неправдоподобен, я прибегаю к пантомиме, и тут я предоставляю актеру еще большую свободу творить – и добиваться самостоятельной славы. Но все же, чтобы не испытывать публику сверх меры, я отдаю немую сцену во власть музыке – вполне, однако, мотивированной танцами в Иванову ночь, – способной создавать иллюзии, и прошу руководителя оркестра хорошо продумать выбор музыкальной пьесы, чтобы ассоциациями с мелодиями современных оперетт, танцевальным репертуаром или чересчур провинциальными фольклорными мотивами не вызвать посторонних настроений.
Балет, который я ввожу, нельзя заменить так называемой народной сценой, потому что народные сцены, как правило, исполняются из рук вон плохо, и многочисленные плаксивые статисты стремятся воспользоваться случаем, чтобы повыпендриваться, тем самым нарушая иллюзию. Так как народ не привык импровизировать свои насмешливые куплеты, а использует уже готовый материал, который иногда звучит двусмысленно, я не стал сам сочинять издевательскую песенку, а взял не слишком известные куплеты из танца-игры, самолично записанные мной в окрестностях Стокгольма. Слова не совсем точно попадают в цель, но в этом-то и весь смысл, ибо коварство (слабость) раба не допускает прямой атаки. Итак, никаких словоохотливых шутов в серьезном действии, никаких грубых ухмылок по поводу ситуации, опускающей крышку на гроб целого рода.
Что касается декораций, то тут я заимствовал асимметричность, оборванность импрессионистской живописи и, как мне кажется, тем самым выиграл в создании иллюзии; ибо благодаря тому, что зритель видит комнату и мебель лишь частично, открывается простор для предположений, то есть приводится в движение фантазия, которая и домысливает недостающее. Я добился и еще одного преимущества – избавился от утомительных выходов в двери, ведь сценические двери, сделанные преимущественно из холста и раскачивающиеся от малейшего прикосновения, не способны даже выразить гнев разъяренного отца семейства, когда тот после плохого обеда выходит и хлопает дверью, «так что весь дом трясется». (В театре раскачивается!) Таким образом, я придерживаюсь одной-единственной декорации, как для того, чтобы заставить персонажей срастись с обстановкой, так и для того, чтобы порвать с традицией декорационных излишеств. Но, имея дело всего с одной декорацией, можно требовать, чтобы она была правдоподобной. Однако нет ничего труднее, чем создать комнату, которая бы выглядела приблизительно как комната, несмотря на то что художнику ничего не стоит изобразить огнедышащие горы и водопады. Пусть стены будут из холста, но малевать полки и кухонную утварь на холсте – с этим, пожалуй, пора кончать. У нас на сцене и без того хватает условностей, в которые нам предлагается верить, поэтому вовсе ни к чему заставлять нас прилагать дополнительные усилия, чтобы поверить в намалеванные кастрюли.