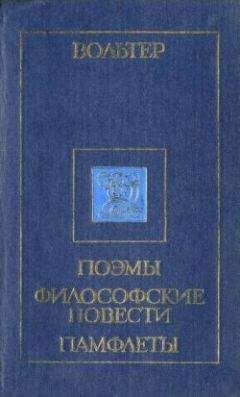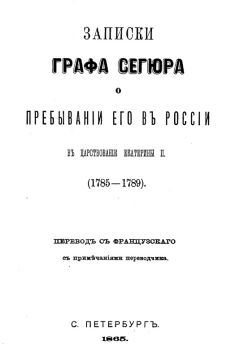Конец песни второй
Содержание
Описание дворца Глупости. Сражение под Орлеаном. Агнеса, облачившись в доспехи Иоанны, отправляется к своему возлюбленному, она попадает в плен к англичанам, и стыдливость ее весьма страдает.
Еще не все — быть смелым и спокойным,
Встречая смерть в пороховом дыму,
И хладнокровно в грохоте нестройном
Командовать отряду своему;
Везде героев мы нашли бы тьму,
И каждый был бы воином достойным.
Кто скажет мне, что Франции сыны
Искусней и бестрепетней убийцы,
Чем дети гордой английской страны?
Иль что германцев выше иберийцы{94}?
Все били, все бывали сражены.
Конде великий был разбит Тюренном{95}{96},
Виллар бежал с позором несомненным{97}{98},
И, Станислава доблестный оплот,
Солдат венчанный, шведский Дон-Кихот{99},
Средь смельчаков смельчак необычайный,
Не уступил ли северный король
Сопернику, презренному дотоль,
Победный лавр во глубине Украйны?{100}
По-моему, полезнее вождям
Уменье очаровывать невежду:
Облечь себя в священную одежду
И ею ослеплять глаза врагам.
Так римляне — мир падал к их ногам —
Одолевали при посредстве чуда.
В руках у них была пророчеств груда.
Юпитер, Марс, Поллукс{101}, весь сонм богов
Водили их орла громить врагов.
Вакх, в Азию низринувшийся тучей,
Надменный Александр{102}, Геракл могучий,
Чтоб над врагами властвовать верней,
За Зевсовых сходили сыновей:
И перед ними чередой смиренной
Клонились в прах властители вселенной,
На них взирая робко издали.
Дениса те примеры увлекли,
II он хотел, чтобы его Иоанне
Те ж почести воздали англичане,
Чтобы Бедфорд и влюбчивый Тальбот,
Шандос и весь его безбожный род
Поверили, что грозная девица —
Карающая божия десница.
Чтоб этот смелый план его прошел,
Бенедиктинца он себе нашел,
Но не из тех, чьи книжные громады
Всей Франции обогащают склады,
А мелкого, кому и книг не надо,
Когда латинский требник он прочел.
И брат Лурди{103}, слуга смиренный богу,
Снаряжен был в далекую дорогу.
На вечно мрачной стороне луны
Есть рай, где дураки расселены{104}{105}.
Там, на откосах пропасти огромной,
Где только Хаос, только Ночь и Ад
С начала мироздания царят
И силою своей кичатся темной,
Находится пещерная страна,
Откуда благость солнца не видна,
А виден, вместо солнца, свет ужасный,
Холодный, лживый, трепетный, неясный,
Болотные огни со всех сторон,
И чертовщиной воздух населен.
Царица Глупость властвует страною:
Ребенок старый с бородой седою,
Кося и, как Данше, разинув рот{106}{107},
Гремушкой вместо скипетра трясет.
Невежество — отец ее законный,
А чада, что стоят под сенью тронной, —
Упрямство, Гордость, Леность и затем
Наивность, доверяющая всем.
Ей каждый служит, каждый ей дивится,
И мнит она, что истинно царица,
Хотя на деле Глупость — только тень
Пустышка, погрузившаяся в лень:
Ведь Плутня состоит ее министром,
Все делается этим другом быстрым,
А Глупость слушается целый день.
Он ко двору ее приблизил скопы
Тех, что умеют делать гороскопы,
Чистосердечно лгущих каждый час,
И простаков, и жуликов зараз.
Алхимиков там повстречаешь тоже,
Что ищут золота, а без штанов,
И розенкрейцеров{108}, и всех глупцов,
Для богословья лезущих из кожи.
Посланником в сию страну чудес
Лурди был выбран из своих собратий.
Когда закрыла ночь чело небес
Завесою таинственных заклятий,
В рай дураков{109}{110} на легких крыльях сна
Его душа была вознесена.
Он удивляться не любил некстати
И, будучи уже при том дворе,
Все думал, что еще в монастыре.
Сперва он погрузился в созерцанье
Картин, украсивших святое зданье.
Какодемон, воздвигший этот храм{111},
Царапал для забавы по стенам
Наброски, представляющие верно
Все наши сумасбродства, планов тьму,
Задуманных и выполненных скверно,
Хоть «Вестник»{112} хвалит их не по уму.
В необычайнейшем из всех музеев,
Среди толпы плутов и ротозеев
Шотландец Лоу прежде всех поспел;
Король французов новый, он надел
Из золотой бумаги диадему
И написал на ней свою систему;{113}{114}
И не найдете вы руки щедрей
В раздаче людям мыльных пузырей:
Монах, судья и пьяница отпетый
Из алчности несут ему монеты.
Какое зрелище! Одна из пар —
С достаточным Молиной Эскобар;{115}{116}
Хитрец Дусен, приспешник иезуита,
Стоит с чудесной буллою раскрытой,
Ее творец{117}{118} склоняется над ним.
Над буллой той смеялся даже Рим,
Но все ж она источник ядовитый
Всех наших распрей, наших крикунов
И, что еще ужаснее, томов,
Отравой полных ереси негодной,
Отравой и снотворной и бесплодной.
Беллерофонты новые{119} легки,
Глаза закрывши, на химерах рыщут,
Своих противников повсюду ищут,
И, вместо бранных труб, у них свистки;
Неистово, кого, не видя сами,
Они разят с размаху пузырями.
О, сколько, господи, томов больших,
Постановлений, объяснений их,
Которые ждут новых объяснений!
О летописец эллинских сражений,
Воспевший также в мудрости своей
Сражения лягушек и мышей{120},
Из гроба встань, иди прославить войны,
Рожденные той буллой беспокойной!
Вот янсенист, судьбы покорный сын,
Потерянный для вечной благодати;
На знамени — блаженный Августин{121};
Он «за немногих» вышел против рати{122},
И сотня согнутых спешит врагов
На спинах сотни маленьких попов.
Но полно, полно! Распри, прекратитесь!
Дорогу, простофили! Расступитесь!
В Медардовом приходе видит взор
Могилы бедный и простой забор,
Но дух святой свои являет силы
Всей Франции из мрака той могилы;{123}
За исцеленьем к ней спешит слепой
И ощупью идет к себе домой;
Приводят к ней несчастного хромого,
Он прыгает и вдруг хромает снова;
Глухой стоит, не слыша ничего;
А простаки кричат про торжество,
Про чудо явленное, и ликуют,
И доброго Париса гроб целуют{124}{125}{126},
А брат Лурди глядит во все глаза
На их толпу и славит небеса,
Хохочет глупо, руки поднимая,
Дивится, ничего не понимая.
А вон и тот святейший трибунал,
Где властвуют монах и кардинал,
Дружина инквизиторов ученых,
Ханжами-сыщиками окруженных.
Сидят святые эти доктора
В одеждах из совиного пера;
Ослиные на голове их уши,
И, чтобы взвешивать, как должно, души,
Добро и зло, весы у них в руках,
И чашки глубоки на тех весах.
В одной — богатства, собранные ими,
Кровь кающихся чанами большими,
А буллы, грамоты и ектеньи
Ползут через края второй бадьи.
Ученейшая эта ассамблея
На бедного взирает Галилея{127},
Который молит, на колени став:
Он осужден за то лишь, что был прав.
Что за огонь над городом пылает?
То на костре священник умирает.
Двенадцать шельм справляют торжество:
Юрбен Грандье горит за колдовство{128}{129}.
И ты, прекрасная Элеонора{130}{131},
Парламент надругался над тобой,
Продажная, безграмотная свора
Тебя в огонь швырнула золотой,
Решив, что ты в союзе с Сатаной.
Ах, Глупость, Франции сестра родная!
Должны лишь в ад и папу верить мы
И повторять, не думая, псалмы!
А ты, указ, плод отческой заботы,
За Аристотеля и против рвоты!{132}{133}
И вы, Жирар, мой милый иезуит{134},
Пускай и вас перо мое почтит.
Я вижу вас, девичий исповедник,
Святоша нежный, страстный проповедник!
Что скажете про набожную страсть
Красавицы, попавшей в вашу власть?
Я уважаю ваше приключенье;
Глубоко человечен ваш рассказ;
В природе нет такого преступленья,
II столькие грешили больше вас!
Но, друг мой, удивлен я без предела,
Что Сатана вмешался в ваше дело.
Никто из тех, кем вы очернены,
Монах и поп, писец и обвинитель,
Судья, свидетель, враг и покровитель,
Ручаюсь головой, не колдуны.
Лурди взирает, как парламент разом
Посланья двадцати прелатов жжет
И уничтожить весь Лойолин род
Повелевает именным указом;
А после — сам парламент виноват:
Кенель в унынье, а Лойола рад{135}.
Париж скорбит о строгости столь редкой
И утешает душу опереткой.
О Глупость, о беременная мать,
Во все века умела ты рождать
Гораздо больше смертных, чем Кибела{136}
Бессмертных некогда родить умела;
И смотришь ты довольно, как их рать
В моей отчизне густо закишела;
Туп переводчик, толкователь туп,
Глуп автор, но читатель столь же глуп.
К тебе взываю, Глупость, к силе вечной:
Открой мне высших замыслов тайник,
Скажи, кто всех безмозглей в бесконечной
Толпе отцов тупых и плоских книг,
Кто чаще всех ревет с ослами вкупе
И жаждет истолочь водицу в ступе?
Ага, я знаю, этим знаменит
Отец Бертье, почтенный иезуит{137}.
Пока Денис, о Франции радея,
Подготовлял с той стороны луны
Во вред врагам невинные затеи,
Иные сцены были здесь видны,
В подлунной, где народ еще глупее.
Король уже несется в Орлеан,
Его знамена треплет ураган,
И, рядом с королем скача, Иоанна
Твердит ему о Реймсе неустанно.
Вы видите ль оруженосцев ряд,
Цвет рыцарства, чарующего взгляд?
Поднявши копья, войско рвется к бою
Вослед за амазонкою святою.
Так точно пол мужской, любя добро,
Другому полу служит в Фонтевро{138}{139}{140},
Где в женских ручках даже скипетр самый
И где мужчин благословляют дамы.
Прекрасная Агнеса в этот миг
К ушедшему протягивала руки,
Не в силах победить избытка муки,
И смертный холод в сердце ей проник;
Но друг Бонно, всегда во всем искусный,
Вернул ее к действительности грустной.
Она открыла светлые глаза,
И за слезою потекла слеза.
Потом, склонясь к Бонно, она шепнула:
«Я понимаю все: я предана.
Но, ах, на что судьба его толкнула?
Такая ль клятва мне была дана,
Когда меня он обольщал речами?
И неужели я должна ночами
Без милого ложиться на кровать
В тот самый миг, когда Иоанна эта,
Не бриттов, а меня лишая света,
Старается меня оклеветать?
Как ненавижу тварей я подобных,
Солдат под юбкой, дев мужеподобных{141}{142},
Которые, приняв мужскую стать,
Утратив то, чем женщины пленяют,
И притязая тут и там блистать,
Ни тот, ни этот пол не украшают!»
Сказав, она краснеет и дрожит
От ярости, и сердце в ней болит.
Ревнивым пламенем сверкают взоры;
Но тут Амур, на все затеи скорый,
Внезапно ей внушает хитрый план.
С Бонно она стремится в Орлеан,
И с ней Алиса, в качестве служанки.
Они достигли к вечеру стоянки,
Где, скачкой утомленная чуть-чуть,
Иоанна захотела отдохнуть.
Агнеса ждет, чтоб ночь смежила вежды
Всем в доме, и меж тем разузнает,
Где спит Иоанна, где ее одежды,
Потом во тьме тихонечко идет,
Берет штаны Шандоса, надевает
Их на себя, тесьмою закрепляет
И панцирь амазонки похищает.
Сталь твердая, для боя создана,
Терзает женственные рамена,
И без Бонно упала бы она.
Тогда Агнеса шепотом взывает:
«Амур, моих желаний господин,
Дай мощь твою моей руке дрожащей,
Дай не упасть мне под броней блестящей,
Чтоб этим тронулся мой властелин.
Он хочет деву, годную для боя, —
Молю, Агнесу преврати в героя!
Я буду с ним; пусть он позволит мне
Бок о бок с ним сражаться на войне;
И в час, когда помчатся стрелы тучей,
Ему грозя кончиной неминучей,
Пусть поразят они мои красы,
Пусть смерть моя продлит его часы;
Пусть он живет счастливым, пусть умру я,
В последний миг любимого целуя!»
Пока она твердила про свое,
Бонно к седлу ей прикрепил копье…
А Карл был лишь в трех милях от нее!
Агнеса захотела той же ночью
Возлюбленного увидать воочью.
Стопой неверною, кляня броню,
С трудом бедняжка тащится к коню,
В седло садится с помраченным взглядом
И с расцарапанным штанами задом.
Толстяк Бонно на боевом коне
Похрапывает тут же в стороне.
Амур, боясь всего для девы милой,
Посматривает на отъезд уныло.
Едва Агнеса путь свой начала,
Она услышала из-за угла,
Как мчатся кони, как бряцают латы.
Шум ближе, ближе; перед ней солдаты,
Все в красном; в довершение невзгод
То был как раз Шандосов конный взвод.
«Кто тут?» — раздалось у опушки леса.
В ответ на крик наивная Агнеса
Откликнулась, решив, что там король:
«Любовь и Франция — вот мой пароль!»
При этих двух словах, — а божья сила
Узлом крепчайшим их соединила, —
Схватили и Агнесу и Бонно,
И было их отправить решено
К тому Шандосу, что, ужасен с виду,
Отмстить поклялся за свою обиду
И наказать врагов родной страны,
Укравших меч героя и штаны.
«Орлеанская девственница»