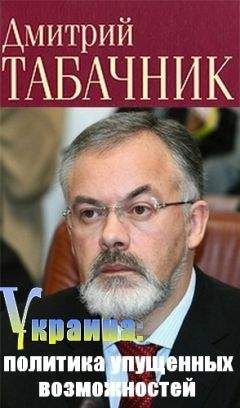Бабушки, действительно, не было, ни пальто, ни торбочки, ни палки, ни калош.
Мама пожала плечами, ушла на кухню и тоже налила себе молока, уже с молоком вышла на лестницу, и я за ней.
— Баба Юля, — позвал я в пустоту пролета.
Музыка в тридцать девятой больше не играла.
— Петруша, голубчик, здравствуй, — будто где-то рядом сказал попугай.
Глинский проснулся от выстрела, выстрелили ему в затылок, и сел, задыхаясь в липком поту. Это выстрелило полено, около плиты сидел огромный белый кот, перед ним лежала задавленная мышь.
— Пошел вон, — сказал коту Глинский и вытер простыней мокрое лицо. — Свинья ты, а не вегетарианец.
Но кот не шевельнулся.
— Он глухой. — В кухню вошла Варвара Семеновна, была она гладко причесана, блузка под горло заколота большой брошью. — Это бывает с альбиносами. Я хотела, чтобы в дровах не было елки, но, как всегда, вышло наоборот. — Она поставила на табурет рядом с диваном молоко: — Выпейте как снотворное.
Глинский засмеялся.
— Мне, как снотворное, нужна бутылка коньяку. Можно больше, но меньше никак.
— Мне нельзя, чтобы вы сегодня пили… — она повернулась спиной и говорила, не оборачиваясь. — Тут у нас трамвай, третий номер, с рельсов сошел, и бабы рельс пилили. Сели на снег в ватных штанах и пилой по нему. И поют под эту виолончель: «Дроля, дроля, дролечка, сделай мне ребеночка… Ручки, ножки маленьки, волоси — кудрявеньки». Мне бы хотелось попросить вас об этом.
Кот встал и медленно вышел из комнаты.
— Повторите, пожалуйста, — сказал Глинский и опять вытер лицо простыней.
— Да не мучьте же меня, — крикнула она, по-прежнему не оборачиваясь. — Мне же стыдно это повторять, я хочу от вас ребенка. От вас, потому что я хочу такого ребенка, то есть чтоб он был в такого отца, — она сбилась, — и сейчас, потому что другого случая у меня не будет. Я тоже кое-чем рискую, согласитесь, так что услуга за услугу.
— Да что я, бык Васька?! — Глинский сел на диване и выпил до дна молоко.
— В некотором роде, конечно… Но есть и принципиальное различие…
— Хотелось бы знать какое, — Глинский подтянул брюки и потащил из кармана папиросу.
Она резко повернулась.
— Их два. Во-первых, я люблю вас, а во-вторых, вы, скорее всего, сгинете с этого света… И не курите, пожалуйста, будете курить потом… И закройте глаза, я стесняюсь.
Глинский закрыл глаза и стал слушать, как она раздевается.
— Подвиньтесь.
Он подвинулся, она сначала встала ногами на диван, потом легла рядом, натянув до горла одеяло с простыней и глядя в потолок. Ее большое жаркое тело прижало Глинского к спинке дивана. Он тоже глядел в потолок, не ощущая ничего, кроме комизма ситуации.
— У меня холодные ноги? — спросила она. — Подождите, пусть согреются…
— Что это, процедура что ли, — взвыл Глинский. — С таким лицом аборты делают, а не с любовником ложатся… Ты ж даже губу закусила… Вам наркоз общий или местный? Я старый, я промок, я в вывернутых штанах бегал, меня посадят не сегодня-завтра, ты сама говоришь…
— Что же мне делать? — спросила она.
— Черт те знает, — подумав, сказал Глинский. — Может, кого другого полюбить… Из учителей… — добавил он с надеждой, — астроном у вас очень милый…
Она затрясла головой.
— Он идиот…
— Я, знаешь, боюсь, что у меня так не получится, — сказал Глинский, — если бы ты преподавала хотя бы биологию, нам сейчас было бы легче…
— Но и Пушкин сказал — «и делишь вдруг со мной мой пламень поневоле…»
Глинский засмеялся.
— Закрой глаза, — угрюмо сказала она, — я встану…
И, не дожидаясь, села. На больших плечах туго натянулась рубашка в каких-то рыбках.
— Погоди, — сказал он.
— Что же, — губы у нее тряслись, — мне перед вами обнаженной с бубном танцевать?! Отвернитесь же, боже, стыд какой… — Она часто дышала. Глинский подумал, что сейчас с ней случится истерика, и схватил ее, уже встающую, за руку.
— Подумай, — сказал он, — на севере, знаешь, как говорят… Там любить — означает жалеть… Ты попробуй сейчас не о себе подумать, а обо мне… Ведь сколько незадач, а тут еще ты…
Она дернула руку, он потянул в ответ. Она упала к нему на грудь.
— Сними рубашку.
Она затрясла головой, и он сам стал снимать с нее рубашку…
— Ну быстрей же, ну быстрей, — говорила она при этом.
Тело уже обнажилось, голова не проходила, он не развязал завязку. Варвара Семеновна говорила из этого вывернутого кокона. И, почувствовав желание, он наконец лег на нее.
— Раздвинь ноги…
— Так? — раздалось из кокона.
— Примерно, — сказал он, ощутив нежность.
— Больно, — сказала она, — но я буду терпеть…
В комнату тихо прошел кот, положил у печки вторую мышь и стал смотреть на тени, которые метались по кухне, стеклам и по всей Москве. Потом кот подпрыгнул, ловя тень на стене, будто хлопнул в ладоши.
Тягач немецкий трофейный вез длиннющие трубы, от мелкодрожащего его капота шел пар, звенели в кузове трубы, выл мотор, тягач тянул в гору, и впереди было только небо, будто они туда и ехали, небо и мутная луна.
Шофер открыл окно и харкнул куда-то в снег в сторону темнеющего леса, потянуло дымом и холодом.
— Дым отечества, — пробормотал Глинский.
Шофер опять харкнул, он не слышал.
Старое бобриковое пальто, кирзачи, потертая шляпа на бугристой, после стрижки, почему-то в проплешинах голове, в ногах поросенок в мешке. Все это напоминало юность, должно было стать привычным, не маскарадом, но образовалось как маскарад. Покой, на который рассчитывал Глинский, не приходил, все, что было четверть века тому назад, унеслось, как курьерский поезд, и со встречным не возвращалось.
Глинский тоже открыл окно и тоже харкнул на снег.
Трубы еще брякнули, подъем кончился: обнаружив источник «дыма отечества». Это догорал барак, вернее, уже догорел, чадил углями и паром. Здесь было много бараков, черных, длинных, одноэтажных, по окна утопающих в снегу.
У пожарников лопнул шланг, и вода хлестала во все стороны, забавляя толпу, не давая прихватиться. Тащили мешки с картошкой, бегали дети. Забор был повален, и все это вместе: и пар, и расхристанные люди, и бегающие по снегу курицы — являло зрелище, скорее, веселое, и Глинскому захотелось туда — таскать мешки, смеяться, а потом завалиться спать где-нибудь на полу.
— Ну каждые квартальные горим, — сказал шофер, помахал, как на гулянке, кому-то рукой, но не остановился.
Перед машиной бежала коза с грязным в сосульках задом и с торчащей вбок примороженной бородой.
Дым от пожарища, уже не черный, а белый, подобный тяжелому летнему туману, пересекал дорогу. Коза исчезла в этом дыме тумана, а после и они въехали, закрывая на ходу окна, шофер длинно гудел.
Дым неожиданно кончился, открыв маленькую станцию, вернее, заснеженную площадь при станции с несколькими фонарями, с автобусной остановкой, там мелькали огоньки папирос, визжала собака и кто-то смеялся. Оттуда бежала женщина с припухшим лицом, в валенках на босу ногу, придерживала рукой не то шарф, не то большие груди мешали ей бежать. За ней хромал подросток в хороших сапогах.
Грузовик разворачивал, открывая красные товарные вагоны в гроздьях инея, с низким пакгаузом в снеговой шапке, маленькую станцию да пивную у перрона.
— Мальчика не видели? Шесть с половиной лет мальчику… — Женщина прыгнула на подножку грузовика и проехала так немного. У нее были очень мелкие острые зубы и припухшее лицо. — Семи лет, в пальто серого сукна… — И, не дожидаясь ответа, спрыгнула и побежала прочь.
Грузовик уперся фарами в кассу. Глинский сунул водителю тридцатку, взял поросенка, прошел в ярком свете и попросил билет до Астрахани.
— Один плацкарт.
Водитель выключил фары. Кассирша за невидимым, ставшим темным окном ругнулась, что поезд в восемь утра и надо знать, и выставила руку с билетом в перчатке с обрезанными пальцами.
«Тося» — было написано по буковке на пальце.
И Глинский сказал:
— Спасибо, Тося! — и следом за водителем вошел в пивную.
Гудела огромная печь. Костистая немолодая женщина с темным лицом играла на аккордеоне «Танец маленьких лебедей».
Молодой мужик, по виду мелкий блатарь, в крашеном кожаном пальто и в шелковом белом кашне, с кружкой пива, с папиросой в зубах шел через пивную, удерживая на стриженной под бокс голове мокрый футбольный мяч. Так он и подошел к столику, где Глинский пил пиво, осторожно вынул папиросу и вместе с мячом попробовал сесть. Запах хорошего табака мешал. Глинский невольно стал смотреть на папиросу, мяч у блатаря упал.
Блатарь узким, очень красным языком перекинул папиросу, двумя пальцами взял Глинского за нос, при этом он продолжал что-то говорить пацану в грязном ватнике, тоже в белом кашне и с экземой вокруг рта.