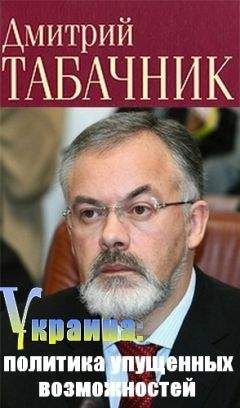— Хочешь мороженого?
— Это же сахар, — поддержал шутку я.
— А ты его возьми в рот, а попу выставь в форточку, будет холодно и сладко, — и он захохотал.
Другой военный, помоложе, внес в детскую два желтых стираных, будто накрахмаленных мешка.
— Тю, — сиплый военный, был он майор, обернулся.
И я тоже увидел, как из шкафа в маминой комнате вылезают Бела с Леной в ночных рубашках.
— Дрейдены, — прочла Полина, — Бела Соломоновна и Лена Соломоновна, племянницы по линии супруги, московская прописка аннулирована, здесь находятся с восьмого сентября.
— Барышням по конфетке, — приказал майор.
Я вышел босой, в трусах, и воткнулся в бабушку. Бабушка сидела на стуле с вещмешком-торбочкой за спиной и с преданностью смотрела на военных.
Надька пронесла бутылку из-под шампанского с кипятком, была она одета, но растрепана и в сползших до щиколотки чулках.
— Да грелка это, грелка, — услышал я ее голос из кабинета, — ну нет у нас резиновой. Спасибо, спасибо…
Посредине бабушкиной комнаты лежала простыня, на ней бабушкины припасы. Военный двумя пальцами держал совсем стухшую колбасу.
— Сыночек, — попросила бабушка, — ты мне чаек верни… Я без чайка…
— Все будет хорошо, мамаша… — сиплый майор дал бабушке конфету. — А вы вон ему торбочку дайте посмотреть… Вы ему торбочку, он вам чаек…
— Спасибо, — сказала бабушка, — вы просто рыцарь… — Она победно посмотрела на нас.
— Если нашу одежду посмотрели… мы можем одеться?.. — спросили хором Бела с Леной.
У них уже был обыск, даже два, они все знали.
Сиплый майор мыл в ванной руки. Я дал ему полотенце.
— Устал я, — сказал он, принимая полотенце, послушал, как наверху на пианино играют «Темную ночь», и подмигнул мне, — завтра всем выходняк, а нам опять работа.
Меня мучило то, что я послал заявление в письме, и оно могло уже прийти, и я не знал, что делать, и на всякий случай тоже подмигнул ему. Очевидно, он не понял и, чтобы проверить себя, мигнул еще раз. И я мигнул в ответ. И только тогда спросил:
— Вы мое заявление читали?
— Читал, — быстро сказал он, — это насчет чего?
— Насчет чекистской школы… — напомнил я, — о приеме. Я вчера посылал.
— Конечно, — сказал он, — это дело серьезное… Только ведь у чекиста должно быть железное сердце.
— И ясная голова, — сказал я.
— И чистые руки, — он показал мне чисто вымытые руки… — Хочешь мороженого? А, да… — и пошел в кабинет.
Я пошел за ним, будто наделенный каким-то новым правом.
В кабинете вся библиотека была вывалена на пол. Двое складывали рукописи и бумаги в накрахмаленные мешки.
Майор заложил руки за спину и стал смотреть на картину, — кривой лес, поезд и ворона с человеческим лицом и в одном ботинке.
— Это что ж? — спросил он. — Икар еврейской национальности?
— Это больной нарисовал с опухолью мозга… Они бывают очень талантливы.
Мама сидела в кресле, скорчившись, с горячей бутылкой из-под шампанского на животе.
Майор кивнул.
— Отказывается расписаться, — сухо пожаловался майору лейтенант со скрюченным набок личиком, — утверждает, что вовсе не муж…
— Я не утверждаю, — заговорила мама, — но, во-первых, у меня дрожат руки, во-вторых, он мне с шофером прислал письмо… Видите, он ушел от меня… Как же я могу?!
— Вижу, — засипел майор, — хотя и затрудняюсь квалифицировать. — Он пронзительно под пианино соседей засвистел «Темную ночь».
В ответ в кладовке завыл и стал скрестись Фунтик.
— Я думаю, надо расписаться, — сказал майор, посвистев. — Мальчик у вас хороший…
— Спасибо, — сказала мама и стала расписываться в книге на каждом листе. — Надя! — позвала она пронзительно. — Угости товарищей борщом. Ты почему не спишь? — закричала она на меня, глаза у нее были большие и абсолютно слепые.
— У меня в комнате тоже ищут, — заорал я в ответ, — где же мне спать?
На кухне бледный Коля держал холодную ступку на разбитом носу.
— Вещей нашлось уйма, — встретил меня Коля, — и авторучка немецкая, и финочка, за которую на тебя генерал грешил, и еще уйма… Финочка, знаешь, где была, в кресле… — Он испуганно посмотрел на грозную Надькину спину.
— Распространение панических слухов, — пронзительным голосом сказала бабушка в дверях, — в виде грядущего голода — 54/3 я беру, но агитации и пропаганды — 58/4, 3, 6 здесь даже не ночевала, — она помахала передо мной костлявым пальцем.
В столовую за ее спиной вышли Бела и Лена с книжками и одним на двоих чемоданом, обвязанным бельевой веревкой. К чемодану были прикручены коньки. Они сели очень прямо и стали читать. Были видны только аккуратные проборы на черных головах.
— Позвольте, мамочка… — В кухню вошел майор, кивнул на Белу с Леной и потянулся, будто после крепкого счастливого сна. — Не любят нас с вами Соломоновны… Плесни борща, хозяйка…
Надька поставила перед майором борщ, выколотила на тарелочку мясо и посолила его.
— Учти, — сказала она Коле, — у тебя тоже так выглядит…
— Не так, — сказал майор. И вдруг стало тихо. В тишине он с шумом втянул в себя борщ.
И все, даже бабушка, из кухни ушли, хотя он никого ни о чем не попросил. Втягивал в себя борщ со всхлипом и все.
— Вот что, — сказал он и положил передо мной пачку сигарет «Русская тройка» с золотым ободком, — кури.
И закурил сам. И я закурил, в кулаке, но не глядя, как раньше, на дверь.
— Папаша твой врагом заделался, — сказал майор. — Или его заделали, пока квалифицировать трудно, буржуазные националисты, а попросту евреи… Они ли за ним, он ли за ними… Страшно, Леха. Вот к вам вечером вчера приходил один…
— Это ж латыш… Лямпочка… — Меня заливал пот, как отца последнее время, голые ноги тряслись, я сцепил их под столом, но курил затягиваясь, и от этого все плыло.
Майор покачал головой.
— Американский полковник, — он посмотрел на потолок, — вышел из посольства и вернулся туда же, и спит там крепко, и ест там сладко, а мы вот с тобой ночь маемся. Я тебе в обоих твоих дневниках, — он подмигнул, — на оборотке телефон записал. Звони. Скажешь «Орел» или «Матрос». Выбирай.
— «Орел», — сказал я, подумав, — а о чем звонить?
— Это уж ты думай, Леха. Себя выручай, мамашу хорошая она женщина. Появится отец, тут же и звони, для его же пользы. — Он выпучил глаза и шумно встал. — Мозги у человека желтые, а у коровы белые, поэтому человек ест корову, а не наоборот. — И вышел.
У двери его ждала мама, на кухню выйти она не решилась. Двери на лестницу были открыты, военные выносили к лифту мешки.
На площадке выше стоял солдат.
Полина в гостиной на свече в бронзовом подсвечнике плавила сургуч, а лейтенант со скрюченным лицом накладывал красные печати с веревочками на двери.
— Все запечатывают, — сказала мама майору, — а где же нам?
— А сколько вас? Два-с, — сказал майор и выбросил перед маминым лицом два пальца. Он говорил, будто другой человек, будто не он сахар предлагал. — Прописку только при коммунизме отменят, и то не для всех. Спецпереселенок в шкафу прячете. Задумайтесь. — И козырнул одному мне.
Полина задула свечку, лейтенант со скрюченным лицом убрал печатку в футлярчик.
— Что ж остальные-то борща не попробовали? — сказала им всем мама.
— Нормально, — сказал майор, и вдруг все быстро ушли, простучали каблуками — и нет. Как не было.
В кладовке заскребся и завизжал Фунтик.
— Фунтика запечатали, — испугался я, — как попугая.
Надька вынула шпильку и пошла к кладовке.
— Совсем котелок не варит, — сказал Коля и встал между Надькой и запечатанной кладовкой.
— Ага, — Надька вдруг схватила Колю и его пальцами стала сдирать печать.
Коля сжимал пальцы в кулак. Но Надька была сильнее, печать повисла на одном шнурке, и Фунтик выскочил.
— Будешь звонить? — сказала задыхающаяся Надька. — Все телефоны зазвонил, падло копченое.
— Надежда, — крикнул Коля и поднял руку, — думай, что болтаешь… А цыган твой в Барвихе в чьих сапогах ходил? В генераловых?
— А дрова? — взревела Надька. — А папаху неношеную кому толкнул? — Она уперла руки в бока.
Нас они не стеснялись, будто нас и не было, будто мы умерли.
— А отрез суконный? А сын Борька от кого? — визжал Коля. — В сорок втором забрюхатеть… Да он у тебя Фрицевич или Карлович, а может, Адольфович? Я, если надо, еще позвоню.
— Ну все, — Надька обернулась к нам с беспомощной улыбкой, — сажусь, Татьяна, иду по генералову пути.
Коля метнулся, взвизгнул и закрылся в уборной. Надька рванула дверную ручку.
— Как вам не стыдно? — Бела стояла в дверях кухни со стаканом молока, может, и правду сказал майор, они нас ненавидели. — От вас даже бабушка ушла.
Бабушки, действительно, не было, ни пальто, ни торбочки, ни палки, ни калош.