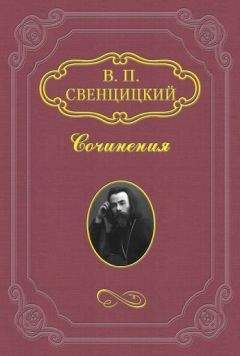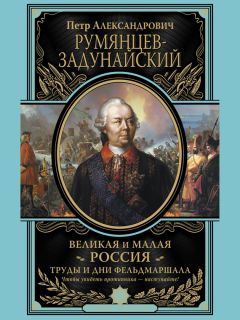Сергей Прокопенко. Да, трагедия, потому что падение Андрея Евгеньевича подорвёт последнюю веру в интеллигенцию. Очевидно, разложение отравило все души. Идёт всё дальше в ширь и глубь. Кто же останется на славном посту?! Когда мы потеряем веру в русское общество…
Ершов. Почему вам обязательно верить в кого-нибудь? Верьте в себя.
Сергей Прокопенко. Я должен верить в кого-нибудь.
Ершов. Это тоже, должно быть, признак настоящей интеллигенции. Хы-хы-хы…
Сергей Прокопенко. Да не смейтесь, чорт возьми. Ничего вы не понимаете. Тут рушатся все мечты наши. Всё, чем мы жили. И что казалось таким близким, почти достигнуто… А вы шута горохового строите.
Сниткин. Шутка прескверная… Что и говорить.
Ершов. А вы Лидию Валерьяновну на него напустите. Ведь вы же верите, что она чудеса творить может, хы-хы-хы…
Сергей Прокопенко. Вот что: я вам уже раз сказал и повторяю ещё раз, если вы в моём присутствии позволите себе говорить о Лидии Валерьяновне в таком тоне, я за себя не ручаюсь. Поняли?
Ершов. Понял, понял – давно понял, хы-хы-хы… Ну – и бог с ней, с Лидией Валерьяновной. А что же делать, если Андрей Евгеньевич упрётся?
Сергей Прокопенко. Я не уступлю ни за что.
Ершов. Прекрасно. Но, допустим, и он не уступит – тогда?
Сниткин. Ну что вы, Андрей Евгеньевич мягкий человек, разве станет он такое дело губить?
Ершов. А всё-таки?
Сергей Прокопенко. Тогда пусть убирается к чорту: будем делать наше дело без него.
Ершов. Вот это так. Браво!
Входит Подгорный.
Подгорный. Я прочёл, господа. И, к сожалению, не могу изменить ни одного слова.
Комната Подгорного в мезонине. Слева письменный стол. Справа круглый стол, диван и два кресла. С этой же стороны небольшая дверь на «башню». Прямо перед зрителями окно и перила, которыми огорожена входная лестница. Вечер. На письменном столе горит лампа.
Лидия Валерьяновна. Я к вам по делу… То есть не только по делу… но всё-таки мне необходимо вас видеть…
Подгорный. О Господи! У всех дела, дела… Хоть вы-то меня пощадите.
Лидия Валерьяновна. Я так встревожена. Расскажите, что такое случилось в типографии.
Подгорный. А! (Махнув рукой.) Вздор. Об этом и разговаривать не стоит: я думал, у вас и в самом деле что-нибудь серьёзное.
Лидия Валерьяновна. Может быть, это гораздо серьёзнее, чем вы думаете. Во всяком случае, я хочу знать.
Подгорный. Право же, вздор. Сергею Борисовичу, Ершову и Сниткину не понравилась одна моя статья. Они потребовали, чтобы я изменил её. Я, разумеется, отказался. В конце концов решили статью напечатать с оговоркой, что редакция взглядов автора не разделяет. А во избежание недоразумений в будущем, на завтра созывается совещание. Вот и всё.
Лидия Валерьяновна. Нет-нет. Это я знаю. Говорят, Сергей Борисович оскорбил вас. Вообще, у вас вышла какая-то неприятность.
Подгорный. Да, Сергей Борисович действительно был почему-то страшно возбуждён и держал себя вызывающе. Я от него никогда не слыхал такого тона.
Лидия Валерьяновна. Что он вам говорил?
Подгорный (смеётся). Ведь это нечто вроде интервью получится.
Лидия Валерьяновна. Вы шутите, Андрей Евгеньевич, а у меня этакое ужасное настроение весь день…
Подгорный. Полно вам, дружище, поговорим по душам, и всё пройдёт.
Лидия Валерьяновна. Вы знаете, Иван Трофимович вот уже несколько дней всё получает какие-то мерзкие анонимные письма. Потом эта история в типографии. И ещё… многое другое… Я не знаю, какая здесь связь… Но как-то всё одно к одному… И сегодня мне сделалось до того жутко, что я не могла усидеть дома и прибежала к вам.
Подгорный. И великолепно сделали. Ваши предчувствия, разумеется, просто от расстроенных нерв. Никаких внешних неприятностей я не боюсь. Да и неоткуда им взяться. А вот внутри… да… там не очень-то благополучно. И у меня, да и у вас, кажется… Как хорошо, что вы пришли, прямо чудесно!..
Лидия Валерьяновна. Вы говорите, что у вас неблагополучно…
Подгорный. Видите, Лидия Валерьяновна, у меня всё так смутно, так странно на душе… Я ничего ещё сам толком не знаю… Но последнее время мне стало ясно, и особенно я почувствовал это сегодня в типографии, что жить так дальше не в состоянии… Что всё это не то и не то… В моей жизни, и вообще в жизни всех нас, нет чего-то главного. А что это главное – не знаю. (Встаёт и ходит по комнате.) Я пишу рассказы, статьи. Меня читают, хвалят. Я начинаю приобретать «имя». Но я же ведь понимаю, что всё это простое самоуслаждение, что долго тешиться этим – нельзя. Ну, известность, ну, на меня показывают пальцами, ну, в витринах открытки с моей физиономией, ну, наконец, такие же истрёпанные, бессильные, не знающие главного в жизни люди, как я, – прочтут мои произведения и взгрустнут. Так неужели же это и есть то самое, что нужно?.. Народ… Да. Но в том-то и дело, что народу мне сказать нечего. Мои сомнения, мои боли, моя душевная неразбериха ему чужды. И зачем я стану заражать его чистую, крепкую душу такою дрянью? Вот об этом я и написал свою статью… Спросите: что делать? Не знаю. Как подойти к народу? Не механически – механически это легко, – нет, душой к душе[32]. Вот в чём вопрос. Вера его мне чужда. Он житель какой-то другой планеты. И язык его, и вся психология – всё другое. Как переделать себя заново и стать таким цельным, уверенным, сильным, как он, – я не знаю[33]. Даже не знаю, возможно ли. А между тем в этом вся суть дела… Научите, Лидия Валерьяновна.
Лидия Валерьяновна. Научить! Смешной вы. Да разве вы не видите, что мы – два сапога пара. Должно быть, потому мне и хорошо с вами. Вот сижу здесь – и точно с самого детства жила в этой комнатке.
Подгорный. Сергей Борисович говорит, что вы способны чудеса творить, – совершите чудо.
Лидия Валерьяновна. Если бы я могла, Андрей Евгеньевич, хоть чем-нибудь помочь вам – я жизни бы своей не пожалела. Да, видно, жизнь-то наша никому не нужна. Самопожертвования в нас хоть отбавляй. Это, кажется, единственное, чему нас научили. А как и для чего жертвовать собой – не знаем. И все мы такие, Андрей Евгеньевич. Вы хоть иллюзией могли бы себя обманывать. А у меня и того нет. Учусь в консерватории. Живу с мужем. Может быть, дети будут. Так разве это то?.. Знаете, когда я была маленькая, терпеть не могла заниматься хозяйством и всё у меня валилось из рук. Мать говорила про меня, что я «никудышная»… Так вот, Андрей Евгеньевич, должно быть, все мы «никудышные».
Подгорный. Значит, и вы чувствуете, что дальше нельзя так.
Лидия Валерьяновна. Да. Но у меня нет никакой надежды, что жизнь может перемениться. Так и будет всё… до конца.
Подгорный. Какая же вы… осенняя…
Лидия Валерьяновна (со слабой улыбкой). Такая уж… Мне стыдно, что я к вашей тоске – свою ещё прибавляю…
Подгорный. Полноте. Вы думаете, «Гром победы, раздавайся» – лучше[34]. Я всё равно в жизнерадостный тон не верю, это – или недомыслие, или ложь. Мужики – не воюют и оружием не бряцают. А просто живут и благодарят Бога за жизнь. Вот этого бы я и хотел.
Лидия Валерьяновна. Как же дальше будет, Андрей Евгеньевич?
Подгорный. Будем тосковать.
Лидия Валерьяновна. Тяжело, больно…
Подгорный. Надо терпеть. Надо жить.
Лидия Валерьяновна. Я и то живу потому, что «надо жить». Ничего не жду. И знаю, с неба ничего хорошего не свалится. Мужа я не люблю по-настоящему. Когда выходила замуж, он казался мне интересным, свободным, жизнерадостным. Я думала, что и меня он сделает такой же. Выведет куда-то на простор. А теперь вижу, что он добрый, честный, хороший – но совсем не то… Если бы дети были, может быть – тоже иллюзию создала бы… не зря, мол, живу… Воспитанием занимаюсь… Жутко думать, Андрей Евгеньевич, о жизни… Всё это должно кончиться или катастрофой… или… (Машет рукой.)
Подгорный. Или?
Лидия Валерьяновна. Ничем…
Подгорный. Не зря столько тоски пережито.
Лидия Валерьяновна. А может быть, зря.
Подгорный. Иногда я так ясно чувствую, что живём мы накануне…[35] (Прерывает и прислушивается.) Слышите… кто-то идёт по лестнице.
Лидия Валерьяновна. Да, кто-нибудь к вам…
Молча смотрят на входную лестницу. Показывается странник, дедушка Исидор. Он подымается медленно. Длинная пауза. Подгорный не встаёт, как бы поражённый чем-то. Лидия Валерьяновна в страхе невольно подаётся к Подгорному.
Подгорный (с изумлением). Дедушка… (Быстро встаёт ему навстречу.)