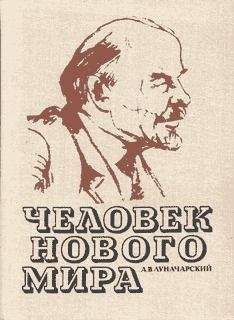Густол. Ну, дальше!
Роз. Дальше, Тузов… лесопромышленник. Тяжкая такая фигура, в роде древней каменной бабы, знаешь… с капиталом большим и с капитальным умом. Что то Муромцевское в нем есть… т. е. не в роде Муромцева думского, а в роде Ильи, я хочу сказать.
Потом Мелкина, это уже менее умная и менее богатая представительница капитала, но за то довольно образованная, вообще культурная… И будет крайне полезна обществу… Затем две весьма либеральные молодые личности — Жучков, толстовец и Зейдель, молодой ученый, ужасно знающий, основательный… Я очень люблю его. В гимназии его обожают. Он учитель гимназии. Ну-с, а затем, ты не сердись, но есть и двое радикалов. Они ничего — довольно ручные. Один, правда, очень неприятен, Гуляев некто, говорит всегда, руками машет… галстух красный, курит крепкие сигари… пьет с какой то жадностью. Но невозможно его не пригласить, так как он в самой нежной близости с нашей красавицей Людмилой Васильевной, Мелкиной, то есть. А другая Доробцева, единственная подруга моей дочери. Эмансипантка. Стриженая, но детей у неё восемь человек.
Густ. Компания так себе. Надо, конечно, посмотреть.
Роз. Нет, очень, очень хорошая компания. По моему, если-бы нам пришлось выдвинуть министерство, мы могли бы, право…
Густ. Что-ж пути сообщения я бы взял…
Розов. А я просвещение.
Густол. А ты садоводством еще занимаешься?
Розов. Как же! Какие у меня тюльпаны в этом году. Пойдем, Ванюша… хотя и темнеет, но все таки увидишь.
Густол. Пойдем пока. (Уходят. Сейчас же вслед за ними входит Зоя и Людмила в шляпке).
Зоя. Присядьте на диван, Людмила Васильевна. Папа с Густолобовым куда-то вышли. — Верно, в сад. А других еще никого нет.
Людм. А я, знаете, и дочку свою Верочку решила привести. Что же? — Ей семнадцать лет, она у меня очень начитанная. Она с Михал Михалычем придет. Он ей уроки латинского языка дает.
Зоя. Ах, вот как… Я очень мало знаю Михаила Михайловича, но мне кажется, что он довольно интересный человек.
Людм. Уж право не знаю, как вам сказать, Зоя Петровна: щелкопер он, знаете, шут гороховый… но вместе с тем, как купчихи старого времени говорили — пронзительный мужчина.
Зоя. Я не могла бы полюбить его.
Людм. Вас. Отчего же?
Зоя. В нем есть что-то чрезмерно мужское… жеребцом пахнет.
Людм. Нет, это крепкими сигарами… от него действительно всегда ужасно крепко пахнет… но это ничего.
Зоя. Он вероятно фамильярен и груб в личных отношениях.
Людм. (С тихим смехом). Не без того… Ну, да ведь что же? В конце-концов я хозяйка.
Зоя. Надо быть не только хозяйкой, а богиней своего мужчины.
Людм. Ну, Зоя Петровна, это вы по неопытности говорите.
Зоя. Я опытна умом.
Людм. Нет уж, что нам с вами об этих делах рассуждать… девица не может иметь настоящего понимания, хотя бы всех Мопассанов прочла.
Зоя. Я не только Мопассана, я Крафт Эбинга читала.
Людм. Это что же, тоже романист?
Зоя. Психиатр… В своей замечательной книге он перечисляет все извращения половой жизни: нимфомания, сатириазис, садизм, эротомания, мазохизм и мн. др.
Людм. (Всплескивает руками и смотрит на нее с уважением). Батюшки светы! И вы про все это читали?
Зоя. Да.
Людм. Ну, ну… Вы бы мне эту книжку дали.
Зоя. Вам нельзя.
Людм. Вот-те на! — Я не институтка.
Зоя. Вас это может развратить. А мне… (пожимает плечами). О, насколько выше всего этого стою я. А да, да… Я загадочное существо. И никто, никто не попытался разгадать меня.
(Входит Ольга Ниловна).
О. Н. Кто тут сумерничает? Зосик? А, с Людмилой Васильевной; ну давайте и я присяду к вам. А что же политический кружок?
Зоя. Вот когда соберутся все. Ах, Олечка, какая тоска… вчера целый день писала письма к Оскару… я прочту тебе потом.
Людм. А это кто такой?
Зоя. Оскар Уайльд, знаменитый английский писатель. Он уже умер, но я пишу ему часто.
Людм. Но ответов не получаете?
Зоя. Для вульгарного понимания — нет. Но в сердце моем он тайно отвечает мне.
О. Н. Прочти. А мой то опять сегодня пьяный пришел. И представь с какими-то нежностями. Я его по щеке — опомнился и пошел спать.
Зоя. Вчера я стояла на балконе и смотрела на звезды. И так хотелось мне, чтобы издали прилетела косматая хвостатая комета…
О. Н. Лидка меня рассердила: жмется к пьяному отцу — жалеет. Я говорю: а матери не жаль? — Смотрит волчонком. Не видишь, говорю, что он пьяный, мокрый, пошлый? — Плачет, а за ней и мелочь завыла. Бросила их на Лукерью и марш — марш сюда. Вот они радости любви и семьи.
Людм. Не у всех же так.
О. Н. Конечно… если человек богатый и имеет одну дочь, да еще овдовел кстати и может держать у себя мужчин, как прислугу — тогда каленкор иной… такого семейного счастья может и я пожелала бы.
Зоя. Лучше быть несчастной. От всякого счастья веет пошлостью, будь оно даже раззолоченное, а горе, даже мещанское, все таки имеет в себе что-то величественное.
Густолобов и Розоватов возвращаются, за ними лакей, несущий две лампы, а за ним горничная с огромным чайным подносом.
Розов. Вот и мы. О, да дамская половина уже в сборе. Позвольте вам представить моего доброго друга — Густолобова, Ивана Ивановича. Это будет среди нашего молодого союза ум, как я думаю, так сказать, наиболее государственный. Людмила Васильевна Мелкина, наша красавица, умница. Ольга Ниловна Доробцева…
О. Н. Дурнушка, дурочка.
Розов. (конфузясь). Что вы, Ольга Ниловна… Зачем же преувеличивать…
Густол. Рад стать знакомым! Не привык с дамами иметь политические дела. И строго говоря, в сердце таю убеждение, что политика не дамское дело…
О. Н. А! Нам только детей рожать, да за горшком смотреть, да? Женщина кормилица, кухарка — вот ваш идеал, да? Тиранство, главенство, господство, издевательство, надругательство — вот чего вы хотите?! Да? Так знайте же, что дух времени против вас! Приближается время забастовки женщин. По знаку центрального комитета мы разобьем вдребезги всю посуду и сразу перестанем беременеть и рожать.
Густол. (поражен). Неужели существует уже такая организация? И вы, Людмила Васильевна, придерживаетесь тех же воззрений.
Людм. Хотя я и купчиха, но отлично понимаю бесправие женщин…
Густол. Хорошо, что я холостяк.
Розов. Ты не сердись, Ванюша, но в виду того, что женщины, как ты видишь, составляют значительный процент союза, мы необходимо должны приблизиться в своей программе к идее равноправия.
Густол. Приближайся, Петрусь… Я же говорю, что, слава Богу, не женат. Даже женской прислуги не держу. Если мне нужна женщина я… гм, вообще говоря, я не враг женщин.
Входят Жучков и Зейдель.
Жучк. (Зейделю). Нет, вы не понимаете во всем объеме, так сказать, идеи русской бани.
Зейд. Я ведь по происхождению немец. У меня врожденный германизм есть. А баня это чистый славянизм… (делает общий поклон). Привет всему обществу.
Розов. Здесь все вам знакомы, кроме друга моего Густолобова Иван Ивановича.
Зейд. Очень приятно… Я Зейдель, учитель истории в местной гимназии.
Густол. (жмет ему руку). Я слышал, вы придерживаетесь радикальных воззрений.
Зейд. Я? Отнюдь! Я убежденный эволюционист.
Густол. А, так это… (Жучкову) вы радикал?
Розов. Нет, нет: радикал у нас Гуляев Михаил Михайлович, а это доктор, он умеренный толстовец.
Жучк. Я прежде всего простой русский человек… не могу назвать себя истинно-русским, так как я расхожусь с этими реакционерами. Я считаю Русь способной к прогрессу, но не по пути Запада, а по своему пути. Если хотите, я радикал. Моя политическая идея — превратить все города с их областями в вечевые республики, на манер Велико-Новгородской… Но оставить Царя, как верховную власть, перенеся, однако, царский стол в древнюю Москву…
Густол. Ого-го! Идея у вас широкая! Ведь это значит перестроить всю Россию.
Жучк. Вернуть ее себе. Вернуть нашу интеллигенцию к исконному народному добродушию, щам, гречневой каше, бане… Даже тараканам… Я, например, у себя не угнетаю тараканов…
Густол. А евреев?
Жучк. Евреев я предполагаю устроить так: подарить им клочок земли в Сибири и пусть устроят собственное государство…