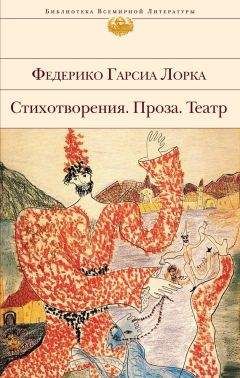Пляшет луна в Сантьяго
Перевод Н. Ванханен
Бледный юноша влюбленный
бродит между облаками?
Нет, луна, луна танцует
над застывшими телами.
Проплывают в небе тени,
мчатся волки за тенями?
То луна, как прежде, пляшет
над застывшими телами.
Может, бьют копытом кони
у ворот, омытых снами?
Нет! Луна, луна танцует
над застывшими телами!
Кто сквозь облачные стекла
смотрит мутными глазами?
То луна, луна, и только,
над застывшими телами.
Смерть меня на небо манит
золотистыми цветами?
Нет, луна, луна танцует
над застывшими телами!
Ай, дитя, под ветром ночи
побледнели щеки сами!
Нет, не ветер – лунный отсвет
над застывшими телами.
То быки мычат протяжно
горестными голосами?
Нет, луна, луна, и только,
над застывшими телами.
То луна в венке колючем,
то луна, луна веками
все танцует и танцует
над застывшими телами!
Диван Тамарита
А. Гелескула
Газелла о нежданной любви
Не разгадал никто еще, как сладко
дурманит это миртовое лоно.
Не знал никто, что белыми зубами
птенца любви ты мучишь затаенно.
Смотрели сны персидские лошадки
на лунном камне век твоих атласных,
когда тебя, соперницу метели,
четыре ночи обвивал я в ласках.
Как семена прозрачные, взлетали
над гипсовым жасмином эти веки.
Искал я в сердце мраморные буквы,
чтобы из них сложить тебе – навеки,
навеки: сад тоски моей предсмертной,
твой силуэт, навек неразличимый,
и кровь твоя, пригубленная мною,
и губы твои в час моей кончины.
Газелла о пугающей близости
Я хочу, чтоб воды не размыли тины.
Я хочу, чтоб ветер не обрел долины.
Чтобы слепли ночи и прозреть не смели,
чтоб не знало сердце золотого хмеля.
чтобы вол шептался с лебедой вечерней,
чтоб, не видя света, умирали черви,
чтобы зубы череп оголил в оскале,
чтоб желтел их отблеск и на белой шали.
Я слежу, как бьется ночь полуживая,
раненой гадюкой полдень обвивая.
Зелен яд заката, но я выпью зелье.
Я пройду сквозь арки, где года истлели.
Только не слепи ты чистой наготою —
как игла агавы в лозах над водою.
Дай тоской забыться на планете дальней —
но не помнить кожи холодок миндальный.
Газелла об отчаявшейся любви
Не опускается мгла,
чтобы не смог я прийти
и чтобы ты не смогла.
Все равно я приду —
и пускай скорпионом впивается зной.
Все равно ты придешь,
хоть бы губы сжигал тебе дождь соляной.
Не подымается мгла,
чтобы не смог я прийти
и чтобы ты не смогла.
Я приду,
бросив жабам изглоданный мой огнецвет.
Ты придешь
лабиринтами ночи, где выхода нет.
Не опускается мгла,
не подымается мгла,
чтобы я без тебя умирал,
чтобы ты без меня умерла.
В венок я вплел тебе вербену
лишь ради колокола Велы.
Гранада, затканная хмелем,
луной отсвечивала белой.
Сгубил я сад мой в Картахене
лишь ради колокола Велы.
Гранада раненою серной
за флюгерами розовела.
И ради колокола Велы
я этой ночью до рассвета
горел в огне твоего тела,
горел, и чье оно – не ведал.
Газелла о мертвом ребенке
Каждую ночь в моей Гранаде,
каждую ночь умирает ребенок.
Каждую ночь вода садится
поговорить о погребенных.
Есть два ветра – мглистый и ясный.
Крылья мертвых – листья бурьяна.
Есть два ветра – фазаны на башнях
и закат – как детская рана.
Ни пушинки голубя в небе —
только хмель над каменной нишей.
Ни крупинки неба на камне
над водой, тебя схоронившей.
Пала с гор водяная глыба.
Затосковали цветы и кони.
И ты застыл, ледяной архангел,
под синей тенью моей ладони.
На свете есть горький корень
и тысячи окон зорких.
Нельзя и рукой ребенка
разбить водяные створки.
Куда же, куда идешь ты?
Есть небо пчелиных оргий —
прозрачная битва роя —
и горький тот корень.
С изнанки лица в подошвы
стекает осадок боли,
и ноет обрубок ночи
со свежей слезой на сколе.
Любовь моя, враг мой смертный
грызи же свой горький корень.
Останься хоть тенью милой,
но память любви помилуй —
черешневый трепет нежный
в январской ночи кромешной.
Со смертью во сне бредовом
живу под одним я кровом.
И слезы вьюнком медвяным
на гипсовом сердце вянут.
Глаза мои бродят сами,
глаза мои стали псами.
Всю ночь они бродят садом
меж ягод, налитых ядом.
Дохнет ли ветрами стужа —
тюльпаном качнется ужас,
а сумерки зимней рани
темнее больной герани.
И мертвые ждут рассвета
за дверью ночного бреда.
И дым пеленает белый
долину немого тела.
Под аркою нашей встречи
горят поминально свечи.
Развейся же тенью милой,
но память о ней помилуй.
Хочу уснуть я сном осенних яблок
и ускользнуть от сутолоки кладбищ.
Хочу уснуть я сном того ребенка,
что все мечтал забросить сердце в море.
Не говори, что кровь жива и в мертвых,
что просят пить истлевшие их губы.
Не повторяй, как больно быть травою,
какой змеиный рот у новолунья.
Пускай усну нежданно,
усну на миг, на время, на столетья,
но чтобы знали все, что я не умер,
что золотые ясли – эти губы,
что я товарищ западного ветра,
что я большая тень моей слезинки.
Вы на заре лицо мое закройте,
чтоб муравьи мне глаз не застилали.
Сырой водой смочите мне подошвы,
чтоб соскользнуло жало скорпиона.
Ибо хочу уснуть я – но сном осенних яблок —
и научиться плачу, который землю смоет.
Ибо хочу остаться я в том ребенке смутном,
который вырвать сердце хотел в открытом море.
Огонь и гипс
безжалостной пустыни,
была ты в сердце влагой на жасмине.
Огонь и блеск
безжалостного неба,
была ты в сердце шелестами снега.
Пустырь и небо
руки мне сковали.
Пустыни неба
раны бичевали.
Я не раз затеривался в море,
с памятью, осыпанной цветами,
с горлом, полным нежности и боли.
Я не раз затеривался в море,
как в сердцах детей я затерялся.
Нет ночей, чтоб отзвук поцелуя
не будил безгубые улыбки.
Нет людей, чтоб возле колыбели
конских черепов не вспоминали.
Ведь одно отыскивают розы —
лобной кости лунные рельефы.
И одно умеют наши руки —
подражать корням захороненным.
Как в сердцах детей я затерялся,
я не раз затеривался в море.
Мореход слепой, ищу я смерти,
полной сокрушительного света.
Хочу спуститься в глубь колодца,
хочу подняться лестницей крутою,
чтобы увидеть сердце,
ужаленное темною водою.
Теряя силы, бредил мальчик
в венке из инея и крови.
Ключи, колодцы и фонтаны
клинки скрестили в изголовье.
О, вспышки страсти, всплески лезвий,
о, белой смерти пение ночное!
О, желтый прах сыпучего рассвета
среди пустыни зноя!
Один на свете, бредил мальчик
с уснувшим городом в гортани.
Прожорливую тину заклинало
приснившихся фонтанов бормотанье.
Агония дугою выгибалась
и, выпрямляясь, холодела.
Сплелись двумя зелеными дождями
агония и тело.
Хочу спуститься в глубь колодца,
и черпать смерти снадобье густое,
и впитывать ее замшелым сердцем,
чтобы найти пронзенного водою.
Я захлопнул окно,
чтоб укрыться от плача,
но не слышно за серой стеной
ничего, кроме плача.
Не расслышать ангелов рая,
мало сил у собачьего лая,
звуки тысячи скрипок
на моей уместятся ладони.
Только плач – как единственный ангел,
только плач – как единая свора,
плач – как первая скрипка на свете,
захлебнулся слезами ветер
и вокруг – ничего, кроме плача.