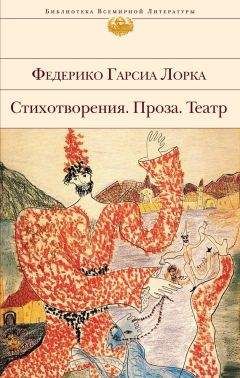Касыда о ветвях
В Тамарите – сады и своры,
и собаки свинцовой масти
ждут, когда опустеют ветви,
ждут, когда их сорвет ненастье.
Есть там яблоня в Тамарите,
грозди слез ее ветви клонят.
Соловей там гасит рыданья,
а фазан их пепел хоронит.
Не печалятся только ветви —
одного они с нами склада:
вдождь не верят и спят так сладко,
словно каждая стала садом.
На коленях качая воду,
ждали осени две долины.
Шло ненастье слоновьим шагом,
частокол топча тополиный.
В Тамарите печальны дети,
и всю ночь они до восхода
ждут, когда облетят мои ветви,
ждут, когда их сорвет непогода.
Касыда о простертой женщине
Видеть тебя нагой – это вспомнить землю.
Ровную землю, где ни следа подковы.
Землю без зелени, голую суть земную,
замкнутую для времени: грань алмаза.
Видеть тебя нагою – постигнуть жажду
ливня, который плачет о хрупкой плоти,
и ощутить, как море дрожит и молит,
чтобы звезда скатилась в его морщины.
Кровь запоет по спальням и станет эхом,
и тишину расколет клинком зарницы —
но не тебе дознаться, в каких потемках
спрячется сердце жабы и сон фиалки.
Бедра твои – как корни в борьбе упругой,
губы твои – как зори без горизонтов.
Скрытые в теплых розах твоей постели,
мертвые рты кричат, дожидаясь часа.
Жасмин и бык заколотый. Светает.
Булыжник. Арфа. Карта. Полудрема.
Быком жасмина девушка рядится,
а бык – исчадьем сумрака и рева.
Будь это небо маленьким ребенком,
полночи бы жасмином расцветало
и бык нашел бы синюю арену
с неуязвимым сердцем у портала.
Но это небо – стойбище слоновье,
жасмин – вода, не тронутая кровью,
а девушка – ночной букет забытый,
у подворотни брошенный на плиты.
Жасмин и бык. И люди между ними
в пустотах сна подобны сталактитам.
Слоны и облака сквозят в жасмине,
и девичий скелет – в быке убитом.
Касыда о недосягаемой руке
Я прошу всего только руку,
если можно, раненую руку.
Я прошу всего только руку,
пусть не знать ни сна мне, ни могилы.
Только б алебастровый тот ирис,
горлицу, прикованную к сердцу,
ту сиделку, что луну слепую
в ночь мою последнюю не впустит.
Я прошу одну эту руку,
что меня обмоет и обрядит.
Я прошу одну эту руку,
белое крыло моей смерти.
Все иное в мире – проходит.
Млечный след и отсвет безымянный.
Все – иное; только ветер плачет
о последней стае листопада.
Роза,
уже становясь неземною,
искала не утренний проблеск —
искала иное.
Не жаждала света,
ни тьмы не просила, ни зноя —
рубеж полусна-полуяви,
искала иное.
Роза,
застыв под луною,
на небе искала не розу —
искала иное.
В воде она застыла —
и тело золотое
затон позолотило.
Лягушками и тиной
пугало дно речное.
Пел воздух соловьиный
и бредил белизною.
Ночь таяла в тумане,
серебряном и светлом,
за голыми холмами
под сумеречным ветром.
А девушка вздыхала,
над заводью белея,
и заводь полыхала.
Заря горела ясно,
гоня стада коровьи,
и, мертвая, угасла,
с венками в изголовье.
И соловьи рыдали
с горящими крылами,
а девушка в печали
расплескивала пламя.
И тело золотое
застыло цаплей белой
над золотой водою.
Касыда о смутных горлицах
Две горлицы в листьях лавра
печалились надо мною.
Одна из них была солнцем,
другая была луною.
Спросил я луну: «Сестрица,
где тело мое зарыли?» —
«Над сердцем моим», – сказала,
а солнце раскрыло крылья.
И я вдалеке увидел,
по пояс в земле шагая, —
две снежных орлицы взмыли
и девушка шла нагая.
Спросил я у них: «Сестрицы,
где тело мое зарыли?» —
«Над сердцем», – луна сказала,
а солнце сложило крылья.
И я двух нагих голубок
увидел в тени орлиной —
и были одна другою,
и не было ни единой.
Как поет город от ноября до ноября
Перевод А. Гелескула
Дамы и господа!
Как ребенок тянется к матери, гордясь ее праздничной нарядностью, так и я хочу показать вам мой родной город. Мою Гранаду. Это немыслимо без музыки – и мне придется петь, а я не мастер. Я пою как поэт, а вернее – как любой погонщик за воловьей упряжкой. Голос у меня скудный и горло не соловьиное. И не удивляйтесь, если я, как говорится, пущу петуха. Но вероломное пернатое, смею заверить, не будет той зловредной птицей, что выклевывает глаза тенорам и потрошит их лавры, и, если вылетит, я сумею заколдовать его и серебряным петушком нежно посажу на плечо девушки, самой грустной в этом зале.
Коренной гранадец, если он вернулся издалека и в пути ослеп, определит время года по тому, что поют на улицах.
Давайте и мы пройдемся вслепую. Оставим наши глаза на ледяном блюде, дабы впредь не кичилась Санта Лусия.
Да и с какой стати при встрече с городом полагаться лишь на глаза, а не на вкус или обоняние? Медовый пряник с орехами и миндальное пирожное и ванильный бисквит из Лаухара скажут о Гранаде не меньше, чем изразец или мавританская арка, а толедский марципан с его немыслимой оторочкой из бисерного аниса и слив, изобретенный поваром Карла Пятого, выдает германскую сущность императора больше, чем его рыжая бородка. И если собор навсегда пригвожден к той старине, чей стертый облик вечен и недоступен сегодняшнему дню, то песенка перелетает оттуда к нам одним прыжком, живая и трепетная, как лягушонок, и свежесть ее печалей и радостей – не меньшее чудо, чем проросшее зернышко из гробницы фараона. Итак, давайте вслушаемся в Гранаду.
У года, как известно, четыре времени – зима, весна, лето и осень.
У Гранады – две реки, восемьдесят колоколен, четыре тысячи водостоков, пятьдесят родников, тысяча один фонтан и сто тысяч жителей. Кроме того, фабрика струнных инструментов и магазин, где торгуют роялями и губными гармошками, но главное – бубнами. И, наконец, места отдохновения, два для песен – Салон и Альгамбра, и одно для слез – Аллея Печали, квинтэссенция европейского романтизма, а в довершение – целое войско пиротехников, которые строят свои потешные башни в зеркальной манере Львиного дворика, где стоячая геометрия воды заражена львиной яростью.
Горная гряда, то скальная, то снежная, то призрачно-зеленая, высится над песнями – и, бессильные взлететь, они падают на черепичные кровли, сгорают в лучах или задыхаются в сухих колосьях июля.
Эти песни – лицо города, и по ним узнается его пульс.
Приближаешься, и первое, что улавливаешь, – это запах донника и мяты, запах трав, истоптанных копытами мулов, коней и волов, разбредшихся по всей гранадской долине. Второе – это звук воды. Не шальной воды, бегущей куда вздумается. Не шумливой, но ритмичной воды, мерной, точной, спрямленной геометрическим руслом и сверенной с нуждами полива. Той, что поит и поет в долине, и той, что страдает и стонет, полная крошечных светлых скрипок, там наверху, в садах Хенералифе.
В ней нет игры. Игра – для Версаля, где вода – это зрелище, чрезмерное, как море, парадный архитектурный ансамбль, не способный петь. Вода Гранады служит утолению жажды. Она живет и едина с теми, кто пьет ее или слушает ее или хочет умереть в ней. Она познает агонию фонтана, чтобы упокоиться в водоеме. Это о ней сказал Хуан Рамон Хименес:
Какая пытка – терпеть
и бредить освобожденьем,
и с вечными тупиками
бороться, как с наважденьем,
и лбом упираться в стену
и биться о камень косный!
И только в последнем сне
увидеть себя бесслезной…
Помимо того, есть еще две долины. Две реки. В них вода не поет, там уже смутный шум, туман, перемешанный струями ветра, который шлют горы. Это Хениль, опушенный тополями, и Дарро, окаймленный ирисами.
Но все в меру, все в лад человеку. Вода и Ветер малыми дозами – лишь необходимое слуху. В этом особость и очарование Гранады. Все для внутреннего убранства – крошечный дворик, крохотная песня, миниатюрная вода и ветер, танцующий на ладони.
Кантабрийское море или гулкий ветер, низвергнутый скалами Ронды, пугают гранадца, замершего, замкнутого, заключенного в раму своего окна. Приручены ветер и вода, ибо кипение стихий ломает людской звукоряд и сметает, истощает человеческую личность, которая не может взять верх и утрачивает свой кругозор и мечту. Гранадец все видит в перевернутый бинокль. Поэтому Гранада не дала героев, поэтому Боабдиль, самый прославленный из ее сыновей, уступил ее кастильцам, поэтому веками она ищет убежища взаперти, у своих крохотных очагов, разрисованных луной.