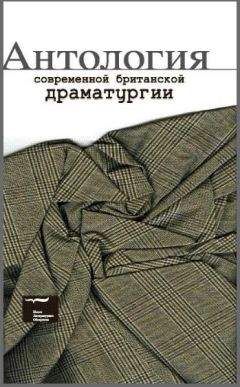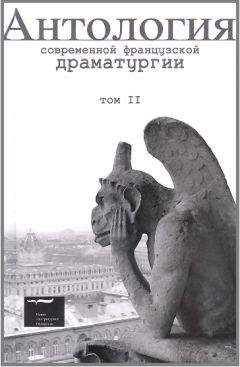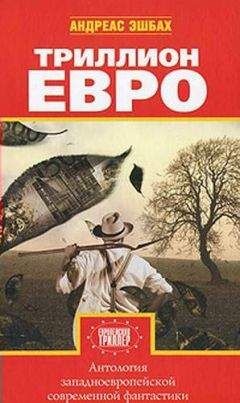ПОРЦИЯ. Еще есть.
РАФАЭЛЬ. Не, пока хватит.
РАФАЭЛЬ закуривает сигару, ПОРЦИЯ — сигарету.
Я был у этого бармена в «Густом тростнике» — Гулан, что ли, его зовут?
ПОРЦИЯ. Да, Финтан Гулан.
РАФАЭЛЬ. Он клянется, что к тебе и не притронулся.
ПОРЦИЯ. Ну да.
РАФАЭЛЬ. Так это неправда? Да? Порция, ну зачем же было так врать?
ПОРЦИЯ. Может, затем, чтобы скрыть что-то большее.
РАФАЭЛЬ. В каком смысле?
ПОРЦИЯ. Рафаэль, давай забудем это, а? Смотри, я тебе ужин приготовила, налила вина, искупала Квинтина, почитала ему на ночь. Разве нельзя хоть раз в жизни просто доставить друг другу немного радости?
РАФАЭЛЬ. Радости? Мы? С ума сойти. Я, вообще-то, уже давно понял, что тебе на меня наплевать.
ПОРЦИЯ. Может, и не было бы, если бы ты был не таким безразличным, если бы тебе хоть что-нибудь было нужно! Я так и не научилась с этим мириться… И… Рафаэль, я никогда никому не говорила… Понимаешь, мы с Габриэлем занимались любовью — там, у реки, и так было всегда, лет с пяти… Это то, что я помню, но мне кажется, что это началось еще до нашего рождения. Я иногда закрываю глаза и снова чувствую, как вода колышется вокруг, и материнское сердце бьется где-то вверху, и мы с ним, сплетенные в клубок, его нога — на моей голове, моя — в его руке, и мы не знаем, кто из нас кто, и не хотим знать, только вода шумит в ушах, и весь мир — это Порция и Габриэль, прижатые друг к другу в тесной утробе, где нет ни дыхания, ни мысли, ни зрения — только тьма, и биение сердца, и прикосновения… А потом, когда мне было пятнадцать, я стала спать с Дэймасом Хэлионом — думать надо было, конечно, потому что он никогда ничего для меня не значил, — а Габриэль увидел, а Габриэль увидел и никогда больше со мной не разговаривал…
РАФАЭЛЬ. Ты моя жена, Порция, а не Габриэля, и это мне ты изменяла, а не ему! Дэймас Хэлион! Господи, Порция, ты настолько лучше его! Ну почему тебе надо было так унижать себя и меня!
ПОРЦИЯ. Я же сказала, он ничего для меня не значил. Совсем ничего, Рафаэль.
РАФАЭЛЬ. A-а, к черту Дэймаса Хэлиона! Думал, мне это важно, но мне плевать на него, на этого говнюка сраного! Нет, дело в Габриэле! Я ждал тринадцать лет, чтобы ты заговорила обо мне так, как ты только что говорила о нем. Все, я устал! (Направляется к выходу.)
ПОРЦИЯ. Рафаэль, не оставляй меня здесь одну!
РАФАЭЛЬ. Я больше не знаю, как с тобой себя вести. Ты считаешь, что можешь делать со мной все, что хочешь. Раньше так и было. Когда я впервые увидел тебя у реки, я попросил Бога, чтобы ты была моей. Я дал тебе все, что может захотеть женщина, а ты? Смешала меня с грязью, а теперь хочешь нежности? Не дождешься. Я пошел спать.
ПОРЦИЯ. Рафаэль.
РАФАЭЛЬ. Ну что?
ПОРЦИЯ. Я заметила тебя еще раньше, однажды в воскресенье видела, как ты рыбу ловил, и твои спокойствие и уверенность, они были для меня как бальзам на душу, и я спросила, кто это, мне сказали Рафаэль Кохлан, и меня поразило, что человек с таким именем может быть таким настоящим, и я решила, что, если Рафаэль Кохлан меня заметит, у меня появится шанс войти в эту жизнь и жить, а это всегда было так тяжело! А ты хочешь, чтобы я говорила о тебе, как о Габриэле. Я не могу, Рафаэль, не могу! И хотя все говорят, что я должна забыть его, я не могу этого сделать, Рафаэль. Не могу.
РАФАЭЛЬ выходит. Раздается торжествующее пение ГАБРИЭЛЯ.
Перевод Надежды Гайдаш и Ольги Кандыриной Copyright © 1996, Marina CarrМартин МакДонах
КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
КЕЙТ, за шестьдесят.
ЭЙЛИН, за шестьдесят.
ДЖОННИПАТИНМАЙК, за шестьдесят.
БИЛЛИ, лет семьдесят-восемьдесят. Калека.
БАРТЛИ, лет шестьдесят.
ХЕЛЕН, семьдесят-восемьдесят. Миловидная.
МАЛЫШ БОББИ, тридцать с небольшим. Красивый, крепкий.
ДОКТОР, сорок с небольшим.
МАМАША, за девяносто.
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ОСТРОВ ИНИШМААН, 1934.
Сцена первая
Магазинчик на острове Инишмаан, примерно 1934 год. Справа — дверь. В глубине сцены — прилавок, за ним — полки, заставленные консервными банками, в основном с горошком. Справа от полок висит старый пыльный мешок. Дверь слева ведет в скрытую от зрителя заднюю комнату. На стене слева — зеркало, рядом стол и стул. ЭЙЛИН ОСБОРН расставляет консервы по полкам. Ее сестра КЕЙТ выходит из задней комнаты.
КЕЙТ. Билли еще не пришел?
ЭЙЛИН. Не пришел еще Билли.
КЕЙТ. Я ужасно волнуюсь за Билли, когда его долго нет.
ЭЙЛИН. Я ушибла руку о банку с горошком, так волновалась за Калеку Билли.
КЕЙТ. Больную руку?
ЭЙЛИН. Нет, другую.
КЕЙТ. Было б хуже, если б ты ушибла больную руку.
ЭЙЛИН. Было б хуже, да так тоже больно.
КЕЙТ. Теперь у тебя обе руки больные.
ЭЙЛИН. Ну как сказать, одна рука больная, а одна ушибленная.
КЕЙТ. Ушиб пройдет.
ЭЙЛИН. Ушиб пройдет.
КЕЙТ. А больная рука останется.
ЭЙЛИН. Больная рука никуда не денется.
КЕЙТ. До самой твоей смерти.
ЭЙЛИН. Вот я и думаю о бедном Билли, у него не только руки, но и ноги больные.
КЕЙТ. У Билли тридцать три несчастья.
ЭЙЛИН. Сто тридцать три несчастья у Билли.
КЕЙТ. Во сколько это у него этот прием у МакШерри с его грудью?
ЭЙЛИН. Не знаю, во сколько.
КЕЙТ. Я, знаешь, ужасно волнуюсь за Билли, когда его долго нет.
ЭЙЛИН. Однажды это ты уже сказала.
КЕЙТ. Что, мне уже и повторить нельзя, когда волнуюсь?
ЭЙЛИН. Да можно, можно.
КЕЙТ (пауза). Со своими ногами Билли мог в яму провалиться.
ЭЙЛИН. У Билли точно ума хватит в ямы не проваливаться. В яму скорее уж Бартли МакКормик провалится.
КЕЙТ. Помнишь, как Бартли МакКормик в яму провалился?
ЭЙЛИН. Бартли МакКормик — тупой как пробка.
КЕЙТ. Либо тупой, либо под ноги не смотрит. (Пауза.) Этот с яйцами был?
ЭЙЛИН. Был, но без яиц.
КЕЙТ. Чего тогда приходил?
ЭЙЛИН. Нет, хорошо, что зашел, а то бы мы ждали яиц и не дождались.
КЕЙТ. Билли тоже мог бы о нас подумать. Не в смысле яиц, а мог бы вернуться побыстрее, мы же волнуемся.
ЭЙЛИН. Может, Билли остановился на корову посмотреть, как в тот раз.
КЕЙТ. Пустая трата времени — на коров смотреть.
ЭЙЛИН. Если ему нравится, что тут такого? Есть занятия похуже, чем на коров смотреть. Такие занятия прямиком в ад ведут. А так он просто к чаю опоздает.
КЕЙТ. Девушек целовать.
ЭЙЛИН. Девушек целовать.
КЕЙТ (пауза). Это бедному Билли не светит.
ЭЙЛИН. Кто ж поцелует бедного Билли? Разве что слепая.
КЕЙТ. Слепая или чокнутая.
ЭЙЛИН. Или дочка Джима Финнегана.
КЕЙТ. Она хоть чего поцелует.
ЭЙЛИН. Хоть осла плешивого.
КЕЙТ. Хоть осла плешивого. А бедного Билли, наверное, и она бы отшила. Бедный Билли.
ЭЙЛИН. Жалко.
КЕЙТ. Жалко, ведь лицо у Билли симпатичное, если только не глядеть на все остальное.
ЭЙЛИН. Я бы не сказала.
КЕЙТ. Чуть-чуть симпатичное.
ЭЙЛИН. Я бы не сказала, Кейт.
КЕЙТ. А вот глаза, например. Глаза-то у него хорошие.
ЭЙЛИН. Не хочу обидеть Билли, но у козла глаза и то лучше. Был бы он человек хороший, тогда другое дело, а то он только и умеет, что на коров таращиться.
КЕЙТ. Хотела бы я его как-нибудь спросить, зачем ему это — на коров таращиться.
ЭЙЛИН. На коров таращиться да книжки читать.
КЕЙТ. Никто никогда замуж за него не пойдет. До самой смерти нам с ним мыкаться.
ЭЙЛИН. Это точно. (Пауза.) Я не против с ним мыкаться.
КЕЙТ. И я не против с ним мыкаться. Билли славный парень, несмотря на коров.
ЭЙЛИН. Надеюсь, МакШерри ничего страшного у Билли не нашел.
КЕЙТ. Надеюсь, он скоро вернется, а то мы волнуемся. Я ужасно волнуюсь за Билли, когда его долго нет.