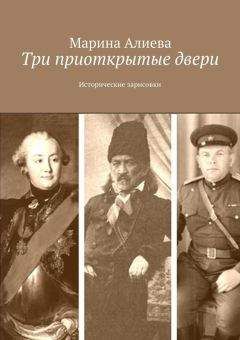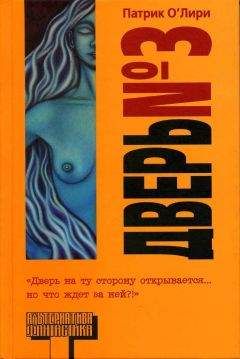За бортом машины мелькали вспаханные и еще не убранные поля, луга, каналы, хутора, станицы, ближе к морю грунтовую дорогу окружили заросшие тростником и камышом лиманы, с чернеющих чаш которых то здесь, то там взлетали вспугнутые машинами дикие утки, гуси, кулики, цапли. Наконец кто‑то завопил: «Море!», и перед взором раскинулась бесконечная гладь Азовского моря.
Когда машины остановились, колхозники стали нетерпеливо спрыгивать с грузовиков: каждому хотелось поприветствовать эту красоту. Волны тихо накатывались на песчаный берег, ласково шевелили ракушки и что‑то шептали. Кое‑кто прямо в одежде бросился в воду. Один Игнат спокойно стоял у кабины грузовика и с улыбкой смотрел на резвящихся людей. Когда колхозники чуть успокоились, председатель приказал женщинам накрывать на стол. Вскоре все сели завтракать, а Люба, завороженная красотой моря, незаметно отошла подальше сбросила ситцевое платье и вошла в море. Она долго брела по отмели, постепенно погружаясь в воду.
Ее тело, уже раздавшееся вширь, нежилось в прохладе и стало вдруг таким легким и по–девичьи гибким, что хотелось плыть и плыть в голубую даль. Волны целовали лицо, каждое движение доставляло радость и удовольствие, и Любе казалось, что она рыба: руки у нее плавники, ноги хвост. Попробовала лежать на спине — получается. Попробовала не плыть, а шагать по воде — не тонет! Открытия следовали одно за другим, и она была по–настоящему счастлива. Люба не знала, сколько прошло времени, как уплыла в море. Наконец она повернула к берегу. Он узкой полоской виднелся на горизонте. От долгого плавания ноги отяжелели, и чем быстрее она плыла, тем дальше (как ей казалось) отодвигалась земля. В какое‑то мгновение ей стало страшно. «Утону!» — подумала Люба, все глубже опуская ноги, но вдруг ощутила песок: она стояла на отмели. Отдохнув, женщина поплыла к берегу.
* * *
А там, на берегу, шел пир. Звучали стаканы. Произносились тосты. Бригадиры по очереди хвалили молодого председателя, и Игнату было приятно слушать эти речи, ибо он сам был уверен, что спас хозяйство. Но радость и гордость подтачивали злость и ненависть к жене: она так внезапно исчезла, и все заметили это, а кое‑кто, ехидно улыбаясь, уже несколько раз спрашивал председателя, где же делась его супруга, и бешенство, с трудом подавляемое им, не давало покоя. Увидев, наконец, в море жену, он, скрывая нетерпение, вошел в воду и поплыл. Приблизившись, глянул на жену зло и холодно, как на врага, и Люба сжалась как от удара, сердцем почувствовав беду.
— Вот сука! С кем была? Я его гада придушу, — задыхаясь от ненависти, крикнул Игнат.
— Да я плавала в море… Я не видела ни одного человека, — оправдывалась женщина. — Клянусь Богом, мамой, детьми, поверь, — плакала Люба, и слезы сливались с брызгами волн, и только по покрасневшим глазам можно было понять, что молодица плачет.
— Видал б.., но таких еще нет! — схватив жену за волосы и потянув их к себе, возмущался мужчина.
— Игнат! Успокойся: ты у меня один, я тебе верна, — плакала Люба, но чем больше клялась и унижалась, тем жестче и непримиримее становился взгляд мужа. Ей бы замолчать, но она оправдывалась, выводя из равновесия Игната.
— Я тебя, гадину, потоплю… Признайся, шо мне изменила, тогда, может, и прощу, — говорил Игнат, наваливаясь всем телом и толкая жену все глубже и глубже в воду. А она рвалась в разные стороны, пытаясь вырваться из цепких, сильных мужских рук, иногда, всплывая, кричала: «Нет, не изменяла я…», — но в рот вливалась вода.
Вскоре ее, притопленную, выволок на берег Игнату она долго лежала на песке, униженная и раздавленная горем. Когда ей стало лучше, Люба поднялась, оделась и сидела здесь же, у моря, до тех пор, пока не загудели машины. Забившись в угол, она прислонилась к борту, закрыла глаза, но слезы просачивались из‑под ресниц и одна за другой катились по лицу.
* * *
После поездки на море Игнат окружил Любу таким безразличием, от которого стыло тело, болела душа, опускались руки. Находиться рядом с ним было невыносимо. Она смотрела на спящего Игната и с горечью думала: «Как он мог так оскорбить меня и унизить? За что? Что я ему плохого сделала? Во всем себе отказывала. Работала как вол!» И чем дольше думала, тем сильнее болело сердце. Оно бешено колотилось в груди, и казалось, что его стучание разбудит Игната, но муж равнодушно храпел, при каждом вздохе его располневшее тело еще больше раздавалось вширь, воздух клокотал в гортани и с бульканьем и свистом вырывался через подрагивающие губы и расползшийся по лицу нос.
Обида давила и мучила ее. Ей страстно хотелось разбудить мужа и объясниться. И, хотя женщина много раз давала себе клятву молчать, не оправдываться, не унижаться, все равно Игнату ничего не докажешь, но оскорбленное самолюбие вновь и вновь толкало ее на объяснение, все более и более ухудшая их отношения. Жизнь стала такой тягостной, что, кажется, бросила бы все и ушла на край света, если бы не дети…
— Игнат! Проснись! — все же решила разбудить она мужа, но сонный мужчина сначала что‑то бормотал непонятное, затем приподнялся и ошалело глянул на Любу.
— Игнат! Послушай! — робко произнесла женщина. — Не знаю, шо тоби там показалось, но ты у меня один… понимаешь… Я дала в церкви клятву и никогда не нарушала ее. Не то, шо ты…
— Замовчи! Надоела! — ненавидяще прошептал Игнат, схватив женщину за шею. — Понимаешь: задушу. Знаю теперь, яка ты святоша… Гулящая… Думав, бабы меня заражали, а это ты… ты… Ты мне противна. Больше не прикоснусь к тебе зараза… — Пальцы его рук, судорожно сжимая, так сдавили шею, что Люба стала задыхаться… Спасаясь от удушья, она пыталась приподняться, вырваться, но нелегко было сбросить с себя грузное тело мужа. Наконец она скатилась с кровати и, шатаясь, как пьяная, побрела к ерику. Луна освещала узкую тропинку. Приклоненные к земле тяжелые кисти калины били по ногам, покрывая их холодными капельками росы. Стояла тишина. Только изредка взвизгивали где‑то собаки, да в зарослях камыша вскидывалась рыба. Люба села на упавшую в воду акацию — дерево вздрогнуло, и по зеркальной глади побежали серебристые круги.
«Как здесь хорошо… — грустно подумала женщина. — Уйти бы в эту тишину навсегда…»
Но она знала и понимала, что не имеет никакого права уйти сейчас из жизни. Пусть умерли надежды на личное счастье, пусть между нею и Игнатом осталась только ненависть и переносить ее тяжело, но у нее есть мать и дети, и им она нужна, так что надо мучиться, терпеть, жить…
* * *
В полдень Игнат приехал на машине домой, чтобы пообедать и немного отдохнуть. В хате никого не было, но он заметил спрятавшегося под покрывалом Володю и, решив поддержать игру, долго заглядывал под кровати, за занавески, сундук, пока сын не прыснул от радости:
— Вот я заховався!
Игнат прижал к себе сынишку и стал его целовать.
— Тю, папка, — пытался высвободиться из объятий мальчишка. — Ты такой колючий! Ты такой вонючий!
Игнат ценил эти минуты уединения с сыном, когда можно было, не стесняясь, дать волю чувствам. Ему казалось, что рядом с ним уже взрослый, понимающий юноша, с которым можно обо всем поговорить по душам. Он усадил Володьку за стол, и тот весело заерзал на стуле. Игнат откинул полотенце: в миске лежали яйца, сваренные вкрутую, картофель, обжаренная курица и несколько соленых огурцов.
— Ну мать як знала, — довольно потирая руки, произнес Игнат. Он вытащил из‑за сундука графин вишневой наливки, наполнил кружку и стал с наслаждением пить.
— Шо це? — вопросительно глядя на отца, спросил Володя.
— Ерунда… Так, сладенький компотик… — усмехнулся Игнат.
— Ну, дай мени, — протянул ручонку мальчик.
Игнат дал сыну кружку, и волна отцовской радости захлестнула мужчину. Растет Володька! Несмотря ни на что, растет!
— Сынок, а скоро ты женишься? — с любовью глядя на Володю, спросил Игнат.
— Ни, задумчиво ответил мальчик, и его васильковые глазки загорелись: видно, парнишку давно волновал этот вопрос. — Ни, папка, — вновь повторил он, с усилием подбирая слова. — Я так решив, — признался Володя. — Понравица девочка, поживу с нею подольше, як не буде бить, женюсь!
— Правильно, сынок, решил, — поддержал мальчика Игнат. — Разберись хорошенько, прежде чем хомут на шею надеть.
Володька потянулся к кружке: вино и впрямь напоминало сладкий вишневый сок, пилось в жару легко и приятно. Но вскоре глаза у ребенка пьяно заблестели, язычок стал заплетаться, и мальчик с усилием смог произносить только одну фразу, которая для Игната была самой приятной и сладкой:
— Папка, я так тебе люблю!
Наконец он замолчал, головка бессильно свалилась на стол, лицо, и так бледное и худое, покрылось какой‑то страшной желтизной.
— Ах ты мой бедный слабый птенчик! — целуя сына, шептал Игнат; укладывая его на кровать и заботливо накрывая одеялом.