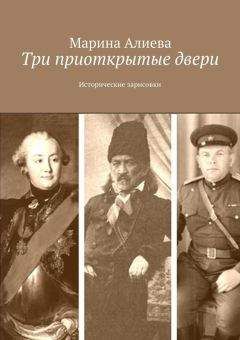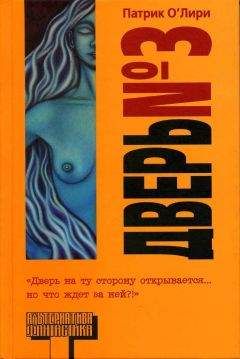— Ах ты мой бедный слабый птенчик! — целуя сына, шептал Игнат; укладывая его на кровать и заботливо накрывая одеялом.
Он еще раз поцеловал мальчика и уехал на работу.
* * *
Люба с порога окликнула сынишку, но ее встретила мертвая тишина.
— Не заболел ли? — с тревогой подумала она, бросаясь к кровати. Еще не глядя на сына, приложила ладонь ко лбу мальчика, и руку обожгло холодом. Этот холод сковал движения женщины, заставил содрогнуться, затем бросил в дрожь, и Люба, уже предчувствуя что‑то страшное, сбросила с сына одеяло: на постели судорожно вытянулся Володя, его большие глаза были широко открыты и смотрели в потолок. На посиневших губах застыла кровянистая пена. Два темно–красных пятна растеклись по белоснежной наволочке.
— Володя! Шо с тобой! — сдавленно крикнула бедная мать, схватив одеревяневшее тело сына и прижав его к себе.
— Сыночек! Кровинушка ты моя…
Сколько лет она разжигала жизнь в этом слабеньком тельце, а теперь, когда, казалось, все беды позади, Любовь не могла принять этой бессмысленной смерти. Не помня себя, она прибежала с сыном в больницу, вломилась в кабинет хирурга и бросилась к нему:
— Спасите, Игорь Васильевич, спасите моего сына, прошу, умоляю, спасите…
Хирург бережно взял безжизненное тело, положил его на кушетку и грустно вздохнул: он ничем не мог помочь этой обезумевшей от горя матери.
— Посидите, пожалуйста, в коридоре, — стараясь не глядеть на плачущую женщину, тихо произнес Игорь Васильевич. — Вас проводит сестра, а я сообщу куда следует, вызову вашего мужа, посмотрю вашего сына…
Володина смерть подрубила всех под корень. Люба как‑то сразу постарела и опустилась. Улыбка сошла с ее милого лица, черные волосы побелели, карие глаза потускнели от слез, лицо приняло такое озабоченное выражение, словно ей что‑то надо было сделать важное, а что — она забыла. Да и ей самой казалось, что она уже старуха, что прожила жизнь, что ждет не дождется смерти. Ничто ее не интересовало, и только иногда она тщетно пыталась понять, как это Володя сам нашел вино за сундуком, напился и погиб.
После похорон Люба возненавидела спиртное, пьяного Игната она тоже ненавидела и боялась, что когда‑нибудь не выдержит и убьет мужа.
Иногда, непонятно откуда,
Как волна набегает строка.
Незнакомое, дивное чудо,
Словно вдаль манит чья‑то рука.
Чья‑то грусть, озорная улыбка,
Жар не вам предназначенных слов.
Может, просто — случайность, ошибка,
Может, то, что зовется — любовь?!
Мы не верим в случайные встречи,
Чьи‑то чувства цинизмом губя!
Все нам время простит, все излечит,
Но простим ли мы сами себя?!
Не нужные споры, банальная жизнь,
Холодные струны согреет рука.
Не будет понятна безмолвная мысль,
Пока не найдешь своего языка…
Банальные споры, ненужная жизнь,
Озябшие пальцы рождают строку.
Но вспыхнув внезапно, умрет твоя мысль —
Она непонятна опять дураку!
Есть грязь под ногами, есть шепот морей,
Блестящие капли росы, словно ртуть.
Есть шорох дождя, есть мозаика дней,
И каждый собою несет что‑нибудь!
Есть тысячи взглядов, есть тысячи лиц,
Есть призрачно–сладкий купюровый хруст.
Нас учат так жить — миллионы страниц,
Мы слушаем правду враждующих уст.
Есть голые стены; есть стол и кровать,
Раздробленная до молекул любовь.
Есть то, что не смогут у нас отобрать,
Что даже без нас повторяется вновь.
И все‑таки, нет, очень многого нет,
Нет жизни короткой, но яркой, как сон.
Есть серый закат, есть в тумане рассвет,
А между улыбками — жалобный стон.
Кленовый лист прилипший к вагонному стеклу
И детская улыбка, как пламя на ветру…
Зачем шептать о прошлом оплавленной свече?
Не видно ржавых пятен на дряхлом кирпиче!
Накличет старый ворон беду мне поутру
И приоткроет тайну — сегодня я умру…
Я слышу исповедь рублевских бухенвальдцев,
Худые плечи, как мишени для дождя.
Меня согреет безразличье сострадальцев,
И горсть земли родной, похожей на меня.
Меня всегда пугала замкнутость пространства,
Горящий вечно красным светофор,
Улыбкой девичьей прикрытое коварство,
И взгляд невинности, стреляющей в упор!
Мы все несем в себе таинственное бремя,
Темней инстинкта и загадочней, чем страх.
Во мне пульсирует взбесившееся время,
Перетирая мою душу в зыбкий прах.
Сквозь бесконечность, влитую в стаканы,
Меня пьянит тепло холодных звезд.
За дверью замерли судьбы моей капканы,
И я завидую уюту птичьих гнезд.
Вновь мне риск обещает удачу
И дарю я девчонке цветы.
У таксиста не стану брать сдачу.
Что сегодня подаришь мне ты?!
Снова круг неизбежности узкий,
Вновь задач нерешенных ярмо.
И обидное прозвище — «русский» —
Красной сталью на нервах клеймо!
Я с тобою не видел свободы,
В твоих стенах не встретил Любви.
И хорошей не помню погоды,
Ты за правду меня не кори!
В твоем чреве мне стыдно быть сыном,
В твоем доме не стать мне отцом.
В инкубаторе грязном и длинном,
Я состарясь, останусь птенцом.
Но плевать я не буду в икону,
Или склеивать царство из щеп.
Твоему повинуясь закону,
Красть но стану твой нищенский хлеб.
Вновь где‑то заполночь вспорхнет мой сон,
О, боже праведный! Я в жизнь влюблен!
Девчонка милая, мой нежный бред,
Я так хочу тебя сберечь от бед!
От чьей‑то грубости, от сигарет,
Людей и тупости, дождливых сред.
От грустных вторников, плохой судьбы,
И от желания другой любви.
Это — они, это боль, это зависть,
Если бы мог — побежал бы им вслед.
Только зачем? Ведь прошла эта шалость,
Кончилось время оплаченных смет!
Тысячи судеб по миру мчатся,
Пыльной дорогою на почтовых.
Этим двоим суждено повстречаться,
Звезды сиять будут только для них.
Двое в мечтах, я — простой обыватель,
Ночь расстелила над ними свой смог.
Последний хрусталь на двоих — я мечтатель,
Я так хочу, чтоб их кто‑то берег.
Светел их путь, на двоих — бесконечность,
Режет глаза их святой ореол.
Сказочный свет растворяет мой скепсис,
Я почему‑то за ними побрел.
Это — они, это — больше, чем зависть,
Если бы мог — побежал бы им вслед.
Чтобы хранить их последнюю шалость,
Чтобы беречь от разлуки и бед.
Не носите чужие очки
В дорогой золоченой оправе.
Не цепляйте на китель значки -—
Вы надеть их сегодня не вправе.
Даже дырки от орденов
Залатайте осенней листвою.
Смойте с глаз ваших грязный покров,
В бездорожье дождливой порою.
Не носите чужие очки —
Вам и в линзах контактных не выжить.
И без них смогут ваши зрачки
Все увидеть и больше, и ближе.
Вы увидите девочку Русь:
Грязной, нищей, больной и голодной.
И ее синеокую грусть —
Жажду правды в пустыне безводной.
Отрекитесь от ваших вождей,
Их затей и ищите дорогу.
И под струями чистых дождей
Вы промойте глаза, ради Бога!
Чужое северное лето.
Меня окутает туман.
И птицы крикнут, улетая:
— Вся жизнь — обман!
Вся жизнь — обман!
Туман потушит сигарету,
А значит — кто‑то где‑то ждет.
Мое потерянное лето!
Тебя никто мне не вернет.
Вновь дни дождливой
серой прозы
Кружат мертвеющим листом.
Когда‑нибудь уйду я в лето,
Которое придет потом.
Осадок неуютной ночи
Смогу рассеять, как туман,
Простить потерянное лето,
Но только лишь не твой обман!