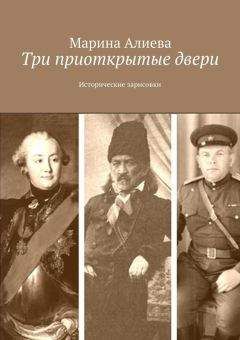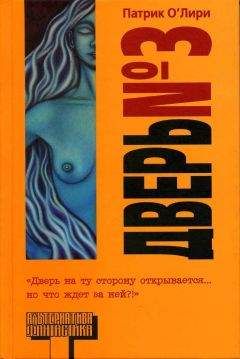Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
Мы уходим всегда —
к сожаленью,
а может быть, к счастью;
мы уходим всегда,
и от этого нам не уйти.
Мы бежим от судьбы
по велению ветренной страсти,
но находим судьбу
на ином, незнакомом пути.
Мы уходим от дел,
но находим дела поважнее,
от любимых своих
мы уходим к любимым чужим;
и пускай обо всем
мы так часто и горько жалеем —
этот долгий уход
многим жизненно необходим.
В расставаниях мы,
познавая тоску расстояний,
не умеем порвать
во вчерашнее тонкую нить…
Ничего на земле
не бывает превыше прощаний,
но простившись, простить —
это вовсе не значит забыть.
Мы уходим всегда,
нам как воздух нужны перемены;
вся прошедшая жизнь —
контур дальней и светлой земли:
сотни малых и милых вселенных -
сотни встреч и разлук —
до последнего дня
уходя, не исчезнут вдали.
Мы брезжили с тобой
поспешными словами —
безумными, шальными,
горячечными, как
внезапная любовь,
взорвавшаяся нами
над гранью ворожбы,
стекающей во мрак.
Мы брезжили с тобой
желанием отсрочить
последнего «прости»
рождающийся звук,
Но истончалась нить
животворящей ночи,
и шаткий балансир
выскальзывал из рук.
Имелось для двоих
две степени свободы
в системе «да и нет»,
Но нежность истекла.
Лишь клен смотрел в окно…
И капельки восхода
стекли с его руки
на негатив стекла.
Какие ветра бушевали над нами
и нас осеняли своими крылами!
Какие метели над нами кружили!
А мы от судьбы лишь слегка пригубили,
серебряным пеплом осыпались всуе,
привычно себя никому адресуя,
сверкнули в осколках великой эпохи —
затем, чтоб и дальше дробиться на крохи,
слетая в ничто, словно мошки на свечку:
по взгляду, по лучику, по человечку…
Какие рассветы, какие закаты
вращали на наших часах циферблаты!
Поэтому мы так недолго жалели
внезапно исчезнувших в темном туннеле
и тем отлучали себя от печали,
что будто на сцене себя наблюдали;
а сцена вращалась, менялась, летела:
была она — только небесное тело…
Но звезды над ней потому и светили,
что мы хоть немного друг друга любили.
…Скажи, дорогая, ведь ты понимала,
что этого тоже, пожалуй, немало?
От одной тоски к другой
я по замкнутой кривой
убегаю, улетаю
ртутной каплей дождевой,
оставляя в тишине,
словно камешки на дне:
если только это нужно —
не печалься обо мне,
потому что все пройдет..,
и тогда душа поймет:
всякий взрыв непостоянства —
это смерть наоборот.
потому что в никуда
мы, как талая вода,
опадем, меняя форму,
но не камнем навсегда…
Так и я, объятый тьмой,
к непростившимся со мной
возвращусь осенним ветром,
ртутной каплей дождевой.
Я не скажу тебе: «Прощай!»
Я не скажу тебе: «Прости».
Я стану
в тихую печаль
листву осеннюю мести.
Я стану
в стынущий туман
ронять холодный темный дождь
который, словно океан,
не перейдешь,
не превзойдешь.
Ты отдалишься от меня —
на легкий взмах твоей руки,
упрямо–бережно храня
все, чем с тобой
мы далеки…
И будет жизнь твоя идти
среди бесчисленных людей,
которым просто по пути
с тобой,
единственной моей.
А если спросят,
что и как —
скажи,
что долго шла война,
где я — твой друг,
и я — твой враг..,
и что война
завершена.
И что немыслимый урон
вражду лишил
последних сил.
И что никто не побежден
И что никто не победил.
Так мало осталось… А впрочем, какое дело
акациям, тихо роняющим мотыльков
в ладони, которые, в общем, не больше тело,
чем тающий лунный дым; притяженье слов —
дневных — все слабей, двусмысленней; и на ощупь
все тоньше и невесомей побег теней,
в котором смежая ветви, весна полощет
усталую тишину, потому что ей
так мало осталось… А впрочем, гораздо ближе,
чем это казалось, небо — и пьет из рук
любовей моих вино, о которых выжег
я в сердце прикосновения стольких мук,
и все торопилось запомнить глазами окон,
губами беззвучно длящихся сквозняков —
неисповедимый мир, что размыт потоком
снижающихся над городом мотыльков
безумных акаций и шорохов. Шаг за шагом
отчетливей в каждой черточке бытия
пульсация (за каждым знаком —
летучая нежность, тягучая грусть моя).
А мне в этом мире, по сути, немного надо:
исход переулков, грядущих навеять мне,
что время—лишь отсвет лиц в перспективе взгляда,
которых дано коснуться — волной в волне, —
что некому промолчать, что упало утро —
разбилось, звеня, разбрызгиваясь окрест,
и, вспархивая, воробьи на асфальте утром
печатают каждой лапкой незримый крест.
Три женщины ходят ко мне;
и грусть в моем сердце такая,
что я не уверен, что не
придумал себе их. Не знаю,
зачем эта мука тому,
кто тянет за ниточку с неба.
Одна мне нужна — одному —
такая, которая мне бы
гасила под вечер огни
и, глядя в усталую душу,
шептала: «Приляг, отдохни.
А я твой полет не нарушу.
Ты там, ты на Лысой горе,
возьми отворотные травы —
я зелье на лунном костре
сварю не для зла иль забавы,
магический вычерчу круг
ножом с моим именем, милый,
и всех твоих темных подруг
я вышепчу с адовой силой;
и каждую я заменю,
кого называл ты своею;
тебе — лишь с тобой изменю,
тебя же потом пожалею».
Но нет ее в мире. Летит,
грустинка о ней золотая.
А я поднимаюсь в зенит
затем, чтобы рухнуть, сгорая,
и в тайном кружении дней
в холщовых мешочках держу я
сердца трех летучих мышей —
поэтому, круг образуя,
три женщины ходят ко мне,
за смехом печаль свою прячут…
И только при полной луне
они в одиночестве плачут…
Высокое рождается не вдруг,
высокое рождается из боли;
его кормить приходится из рук
и долгим воспитанием неволить.
Оно на удивление мало,
неопытно и слепо в час рожденья,
и нужно неустанное тепло,
чтоб освятить его —
душой и зреньем.
Оно растет
не месяц и не год,
а вырастет —
уйдет бродить по свету,
и множество завистливых невзгод
выходят следом на дорогу эту.
По недоразуменью, впопыхах,
оно в любую дверь не постучимся,
поскольку часто ходит в дураках,
хотя совсем не к этому стремится.
Высокое
является в тиши
тому, кто ждет его —
светло и свято —
пречистой, без размена и возврата,
неповторимой музыкой души.
1.
Сибиряков зимами не испугаешь, но нынешняя выдалась самая холодная за последние четверть века: лютые морозы, метели со снегопадами.