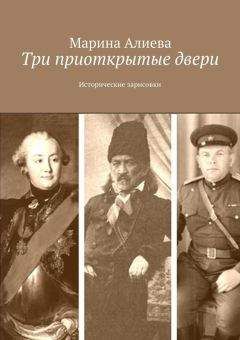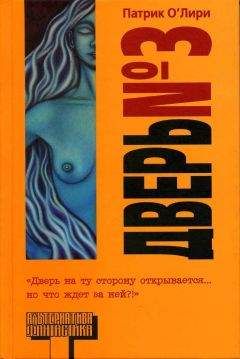Ему‑то, правда, скучать не приходилось: писанины взахлеб. На «жареное» спрос был всегда, а нынче — особенно беспощадный прокурор общественной жизни со всеми ее мерзостями, опоносивший не одного писателя–земляка и повыше, открыл для себя «золотую» жилу: жидо–масонская угроза, происки «голубых» и угроза красно–коричневых, серость литературных творений, общее вырождение…
Словом, был повод в колокола звонить.
Писалось ему сегодня как никогда легко. Даже телевизор, который он не раз порывался сбросить с пятого этажа чуть ли ни министерской своей квартиры, не мешал, а дикие вопли перезрелой, вечно молодящейся эстрадной «звезды» только подбрасывали палки в костер его горящего вдохновения.
Обличительный свой монолог автор строчил, как сущий дьявол. Он так вошел в образ прокуратора, что не мог остановиться.
Покончив с «голубыми», он хотел уже было перейти к собратьям по перу, бывшим сотрапезникам в литературном буфете, как вдруг сердито зазвонил телефон.
— Разговор есть, — коротко, но как всегда веско, сообщил знакомый голос, ставший поити что родным. — Приходи.
То, что рассказал ему через полчаса бывший его Начальник, сотрудник одной весьма солидной, к тому же, грозной организации, было ужасно. Пострашкее вызовов в прокуратуру, в которой сдуру завели на него Дело, гонений демократов и прочей житейской суеты.
У Хабалкина аж в штанах зачесалось, как от чесотки какой.
«Вот так подарочек к рождественскому столу! Да с такой новостью меня самого с потрохами сожрут».
До Рождества оставался час с небольшим. Писатели, чинно рассевшись за столиками, по привычке трепали языками, с нетерпением поглядывая на спасительную батарею горячительных напитков, выменянных ка 250 тонн офсетной бумаги у здешнего графомана. Бывший следователь угрозыска, заваливший книжный рынок сериалом из жизни «зэков» и рецидивистов, в рекордно короткий срок писаниной своей сколотил целое состояние.
Позабыв о неоконченной статье, обещавшей очередной скандал, критик засобирался на вечер в Дом литератора, представляя, как «весело» нынче будет в их кабачке–морозильнике. «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», — пел с экрана телевизора женоподобный молодой человек с шестиконечной звездой в левом ухе. «А ведь правду говорит, «гомик» чертов, — подумал Мирон Петрович. — Но наши‑то пердуны от таких новостей совсем околеют».
Любуясь в зеркало, Хабалкин бережно расчесал длинный клок седеющих волос, напоминающих потрепанную косу, и отработанным движением уложил вокруг лысины. Пожирающий, вечно ненасытный взгляд его неопределенного цвета, с белесыми ресницами, глаз чуть потеплел. Парадный костюм цвета «хаки» (в душе он всегда считал себя военным) с высоченной шляпой, чудом державшейся на макушке, в мгновенье ока превратил критика в муж чину–загадку. «В этом что‑то есть!» — звонко щелкнул он пальцами, подмигнув самому себе, что означало полное его удовольствие, и помчался на «огонек», безобразно виляя квадратным задом.
— Мирон Петрович, голубчик, ты где пропадаешь?! — выкрикнул посиневшими от холода губами поэт Бесподобны, — К стульям попримерзали, в бутылках лед, а массовика нашего все нет и нет.
Хабалкин повелительно поднял руку, опоясанную замысловатым браслетом в виде удава, и все затихли.
— Я пришел с плохим известием. Прямо скажу: новость у меня отвратительная, я бы сказал, ужасна? — прошипел он и сделал такую невообразимую мину, что сидевшие переглянулись: наверняка пакость какую‑нибудь уготовил. За ним давно уже закрепилась слава «гонца дурных вестей».
— Вот сволочь, — шепнула соседу Клубничкина, ненавидившая критика всеми фибрами, пыхтя тол стенной сигарой. — Сейчас все испортит, увидишь.
— А–а, нас ничем уже не испугаешь, — отмахнулся поэт–пропойца Лакабдин.
Мирон Петрович, окинув зал убивающим взглядом объявил наконец:
— Наш Долл, в котором мы творили, в котором мы делили радости свои и беды, — он сделал нарочито длинную паузу, — наш Дом продан. Миллионерше, из израильских.
Зал онемел, напоминая паноптикум. У Клубничкиной выпала изо рта сигара. Рука поэта Бесподобина замерла в воздухе на полпути к заветной бутылке «Российская корона». Даже залитая огнем елка вся как‑то съежилась и поблекла.
Умел нагнать страху критик Хабалкин, что и говорить!
Всеобщее оцепенение прервал старейший прозаик Непомнящий. Крепкий старик, не зря на войне танкистом был. С побелевшими от негодования губами, тонкими и высохшими, больше походившими на одну из складок испещренного глубокими морщинами лица, он неторопливо, с достоинством, встал:
— Пусть только порог переступит! — погрозил писатель кулаком. Граненый стакан в его руке зловеще сверкнул, словно граната.
И началось. Как будто бомба взорвалась: писатели заорали так, что Хабалкин оглох на мгновение. Он даже испугался: не сошли ли они действительно с ума?!
Сквозь общий гвалт и проклятия доносилось:
— Писатели мы с вами, или девки продажные?! Горбатились за машинкой, как проклятые, создавали летопись родного, на века любимого, края, а нас отблагодарили.
— Да я скорее в тюрьму сяду, чем уступлю наш Дом какой‑то заморской шлюхе.
— Самозванка!
— Купила! Да кто она такая?!
— Ноги ее поганой здесь не будет! Повадились на нашу кубанскую землю!
— Умрем, но не сдадимся!
Святой праздник выливался в какой‑то митинг. Бедную миллионершу костерили по–матушке и по–батюшке. В зале потеплело. Разгоряченные литераторы с места рвались в бой, начисто позабыв о Христе.
— Дежурить будем с нагайками.
— Подымем народ! — слышалось из глубины зала.
Хабалкин, сорвав с елки банан, размахивал им, как шашкой.
Но тут бесшумно отворилась дверь и стали одна за другой входить полуобнаженные девицы с подносами в руках: фрукты, вина, стеклянные чаши с зернистой икрой. Выстроились в два ряда, а между ними, вся сверкающая, со звездой, с жезлом золоченым, расточая улыбки на толстых губах, молодая особа очень даже приятной внешности: то ли Снегурочка (традиционный сюрприз городской мэрии), то ли Лада Дэнс, то ли Фея… В белоснежном платье, напоминающем легкое облако. Густые, рыжие волосы заплетены в косу и уложены вокруг головы. «Точь–в-точь, как у меня, — поймал себя на дикой мысли Хабалкин, — и вдруг испугался. — Дурею, что ли?»
От запаха духов незнакомки у него кружилась голова. Все остолбенели.
— Ык‑кто Вы?! Ык… нарушив повисшее молчание, спросил критик, заикаясь. Чутье подсказывало ему, кто пожаловал к ним в гости, но как человек, в котором умер великий артист, как профессионал, не имеющий дурной привычки прерывать сюжет драматического действа, Мирон Петрович и на сей раз решил до конца сыграть отведенную ему роль распорядителя вечера, убежденный, что все в жизни должно идти своим естественным ходом, по законам композиции, так сказать: начало, развитие и финал, то есть расстановка сил. Какой бы она не была.
Изобразив восхищенный вид, полный радушия и мужского обаяния, он пригласил очаровательную незнакомку в глубь зала.
— Добрый вечер, господа! — улыбнулась гостья. — Меня зовут Берта Рабинович. Я новая хозяйка этого Дома. Нашего с вами Дома. Когда‑то на его месте стоял особняк моего деда, писателя Симона Придиусовского. Но я пришла не только за тем, чтобы вернуть свое. Я пришла помочь зам. — Кивком головы она показала на девочек, совсем еще юных, милых, прекрасных лицом и телом, и у многих мэтров пера потеплели почему‑то глаза. А Клубничкина возмущенно фыркнула.
— Мы откроем здесь Международный литературно–оздоровительный Центр с филиалами и отделениями, — делилась планами незваная гостья, не обращая внимания на ненавистные взгляды писателей. — У нас все будет, как в лучших Домах Европы: номера, секции прозы и поэзии. Ночное отделение драмы с варьете и водевилями. Кабинеты эссеистики. Массаж, тренажеры, омоложение и прочее творческо–телесное вдохновение. Для любителей острых ощущений будут работать опытные авангардистки, признанные мастера стриптиза. Станут традиционными конкурсы красоты и «золотого» пера литературы. К нам потянутся люди. Вы забудете, что такое уныние и творческий застой, — заверила обалдевших писателей экстравагантная миллионерша. — А главное, — подчеркнула она, — рядом с вами всегда будут состоятельные люди… Клиенты…
Тут же, не откладывая в долгий ящик, госпожа Рабинович распределила основные служебные обязанности — в качестве рождественского подарка.
Клубничкиной, не по годам надорвавшей спину на литературном поприще, предстояло заниматься в ночную смену с начинающими поэтессами. Заведующего обнищавшим литфондом Дятлова ожидала приходная касса. Страдающий язвенно–трезвенным недугом прозаик Наливайко хоть сейчас готов был встать за стойку круглосуточного бара. Неста реющий стихоплет Георгинов возглавил салон омоложения.