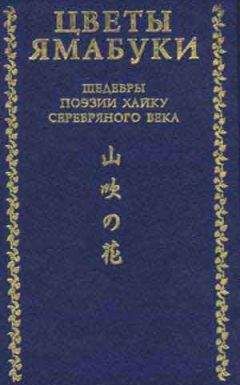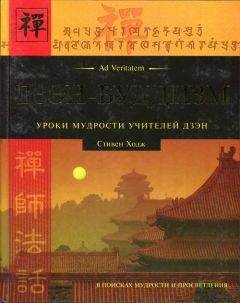Александр Долин. Мир в капле дождя
В первой половине прошлого столетия Япония пережила свой Серебряный век, который дал миру плеяду блестящих мастеров как старых, так и новых поэтических жанров. Их творчество, почитаемое на родине наравне с бессмертной классикой Средневековья, давно вошло в сокровищницу японской культуры, но лишь сегодня начинает приоткрываться Западу.
В основе поэтики танка и хайку лежит стремление к конденсации образного мышления. Ее символ — мир, отраженный в капле, а точнее — в мириадах похожих друг на друга капель воды. Для японского поэта, унаследовавшего классическую традицию, на передний план выступает рефлективная сторона творчества — осмысление извечных законов природы. Дзэн-буддизм, адаптировавший буддийскую метафизику к земной реальности и нуждам изящных искусств, придал окончательную форму концепции Бытия художника во Вселенной. Все предшествующие поколения художников и поэтов, причастные к той же духовной традиции, стремились к постижению единого Пути в мириадах частных проявлений. Каждое произведение искусства — стихотворение, картина или абстрактная композиция из камней в саду — является очередной попыткой постижения Пути.
Несказанное, непрорисованное содержит отсылку к несказанному, к универсальной красоте, мудрости и гармонии вселенной — ко всему тому, что индивидуальное сознание, индивидуальное художественное дарование охватить не властно. Выявление сущности мира сводится к его познанию через посредство специфического художественного кода. Чем точнее передано то или иное действие, состояние, выражение при помощи минимального количества средств, чем явственнее присутствие в данном произведении Вечности и Бесконечности, тем совершеннее образ. Так возникает поэтика суггестивности, нашедшая оптимальное выражение в танка и хайку.
Символика «зеркальности духа-разума», «духа как водной глади» присуща всем видам дзэнских искусств, и в новых танка и хайку XX века, освобожденных от бремени канонических ограничений, поэтика, тем не менее, строится по-прежнему на отражении «великого в малом». Высший смысл бытия, заключенный в обыденных предметах, универсальных чувствах и своеобразных индивидуальных эмоциональных откликах, определяет характерные особенности как обновленных танка, так и хайку. Не случайно великий реформатор традиционной лирики Масаока Сики считал танка и хайку двумя стволами поэзии, растущими из единого корня.
Существование поэтики намека и обертона было возможно только в стране, где уровень культуры позволял рассчитывать на всеобщее знание классического наследия, где коллективная «историческая память» народа подкреплялась разветвленными литературными и художественными реминисценциями из поколения в поколение. Новое в японской культурной традиции не отрицало старого, не перечеркивало его, но видоизменяло, дополняло и совершенствовало, наполняя порой иным социальным содержанием, приспосабливая к нуждам иного сословия, иной эпохи.
Реформа танка и хайку в начале XX века была насущной необходимостью, и никто из поэтов-традиционалистов Нового времени не остался в стороне от процесса преодоления классического канона. Многие пытались предложить свой канон взамен старого. Иные призывали снять все возможные ограничения, перейти с древнеклассического языка на разговорный и писать как пишется, не заглядывая в поэтики. Вместе с тем традиционные жанры не утратили своих лучших качеств, продолжая служить изощренным инструментом самопознания и постижения красоты природы.
На фоне активно развивающейся культуры, впитывающей всевозможные западные влияния, с ее постоянно меняющимися школами и течениями, отрицанием предшественников и утверждением новых западных кумиров, танка и хайку даже в весьма модернизированном виде предстают миллионам читателей целительным родником национальной традиции.
Впрочем немногим меньше и число любителей новой поэзии, возникшей лишь на рубеже XX века. За несколько десятилетий поэты современных форм гэндайси, восприняв лучшие достижения западной литературы, прошли долгий путь, на который европейской поэзии понадобились столетия. От поэтики романтизма и символизма одни, создавая разнообразные школы, перешли к авангардным экспериментам, другие устремились в область гуманистической лирики реалистического направления. Сегодня гэндайси успешно конкурируют с танка и хайку, пополнив золотой фонд японской классики и органично вписываясь в контекст мировой поэзии модернизма.
Поэты танка первой половины XX века[1]
* * *
На утесе стою
и вижу, как волны прибоя
бьют о камни внизу,
оставляя белую пену —
зелена пучина морская…
* * *
Оглянувшись назад,
я вижу лишь берег пустынный.
Далеко-далеко
протянулись песчаные дюны —
может быть, до самой столицы…
* * *
И мои земляки
из славного города Нара[2] —
я надеюсь, поймут,
как весной не знает покоя,
в дальний путь устремляется сердце…
* * *
На горе Касуга[3] под сенью гигантского кедра
распустились весной
и белеют цветы подбела[4] —
на глазах невольные слезы…
* * *
На лугу Касуга
цветет одинокая вишня —
и, как древний поэт,
предвечерней порой вещает
о щемящей прелести странствий…
* * *
На горе Касуга
трепещут глицинии листья
на весеннем ветру
и показывают изнанку —
снова в путь пора собираться…
* * *
Хорошо на душе
оттого, что по древнему тракту
я сегодня иду —
пролегла дорога из Сахо
прямиком к далекой столице…
* * *
На зеленом лугу
приближаюсь к оленю[5] без рожек,
что прилег отдохнуть,
и, как видно, моим приходом
он ничуть не обеспокоен…
* * *
Незнакомый старик —
вот кем детворе деревенской
я, должно быть, кажусь.
После стольких лет наконец-то
возвратился в края родные…
* * *
Снова вижу его,
мое ненаглядное море!
В доме на берегу
наконец-то разоблачаюсь —
городскую одежду снимаю…
* * *
Я бреду по песку
все дальше вдоль кромки прибоя —
и в подошвы мои
то и дело впиваются крошки
от раздробленных морем ракушек…
* * *
Небосвод поутру
подсвечен зеленой листвою —
ясный день впереди.
Что ж, еще поживу, пожалуй,
вот такой беззаботной жизнью…
* * *
Утром берег реки
окутан недвижным туманом —
и в белесых клубах,
влажной моросью густо покрыты,
тихо падают листья с вишен…
* * *
Ветром полонена
столица древняя Нара —
высоко в небесах
под закатными облаками
пламенеют ярусы пагод…
* * *
В лощине меж гор,
недоступной свету дневному,
вдруг издалека
доносится еле слышно
одинокой горлицы голос…
* * *
Больше нет никого —
я один меж землею и небом
с бодхисатвой Каннон [6]—
и ко мне, ни к кому иному
обращает она улыбку…
* * *
Кто, прокравшись в ночи
на храмовую колокольню,
в гулкий колокол бьет —
если в эту пору сам Будда
в забытьи пребывает сонном?..
* * *
И поля, и луга —
веси древнего края Ямато[7]
все запечатлены
в затуманенном отраженье,
во всевидящем взоре Будды…
* * *
Спичку зажгу —
только тем утолю печали
бесприютной души,
что встречает вечер осенний
и во мглу уходит тоскливо…
* * *
Вдаль уходит река,
волны катят и катят в потоке
без конца, без конца —
и чем дольше гляжу на теченье,
тем сильней любовь в моем сердце…
* * *
Одиночество
за мной по пятам крадется.
Из дому выйду,
по улицам и переулкам
побреду, фонарями подсвечен…
* * *
Как далек он уже —
день апрельский, когда распускались
вешних вишен цветы
и когда тебя, дорогая,
я впервые назвал женою…
* * *
Вверх по дюнам бреду —
взглянуть на крутые утесы,
что белеют вдали,
озаренные ярким солнцем, —
на обрывистый берег мыса…
* * *
Вот в закатных лучах
идет безмятежно нагая
к накатившей волне
эта девушка, разоблачившись,
чтобы здесь окунуться в море…
Исправительное учреждение посреди полей
Ходят по кругу
арестанты один за другим,
колесо вращая —
вспомнилось полотно Ван Гога
«Заключенные на прогулке»…
* * *
Сквозь мглистый сумрак,
в грудь ночи вторгаясь, летит
с лязгом холодным
по металлу металла удар —
вдалеке пробили часы…
* * *
Стыло мерцает
над Фудзи в лунную ночь
снег на вершине —
в небесах над горой нависает
чуть заметный облачный полог…
* * *
Полнолуние.
Спит в колыбели дитя
сном безмятежным.
Я смотрю на него — и в душе
разливается благодать…
Оплакиваю отца
Извозчичий кнут
все нахлестывает раз за разом
лошадь по спине —
звук бессмысленный и ненужный
на последнем пути к погосту…