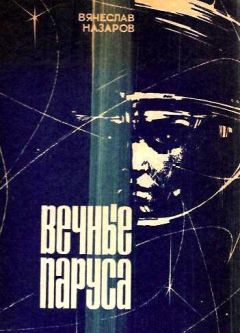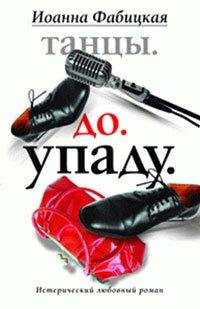Игорь Шкляревский
Я иду!
Стихи
Я иду и смеюсь
от безумной,
пронзительной
радости,
что иду по земле
и когда-нибудь
вдруг упаду,
не дойдя до усталости,
подлости,
робости,
старости,
потому что иду и пою
у людей на виду!
«Слышишь, мартовский ветер донес»…
Слышишь,
мартовский ветер донес
смутный запах оттаявших звезд.
Где-то
в чуткой ночной тишине
капля,
первая в мире,
срывается в снег,
ударяется гирей
весне на весы
и вторая уже
над землею висит.
Снова
ветер донес
запах мартовских звезд.
Слышишь, песня высот
над землею плывет.
Спутник
каплей весенней
кружит во вселенной.
Капля падает гирей
на весы
в чашу мира!
А весна
притаилась в набухших ветвях,
в тракторах,
в дорогих близоруких зрачках.
Скоро хлынет река.
Скоро солнце в зенит,
от земли оттолкнувшись лучами,
взлетит.
А пока
этот запах оттаявших звезд,
схожий с запахом гроз,
майских, радостных гроз,
и за окнами
мир в напряженном сплетеньи:
ветви,
судьбы,
созвездья,
летящие тени!
Шел он
прямой как палка.
Палкой гремел о камни.
У будочки «Папиросы»
хватал пустоту руками.
И дальше —
по грязным лужам,
расплескивая облака…
С гулом врывалась в небо
разлившаяся река.
Плыл по воде стеклянной
его неподвижный взгляд
туда,
где алым
рыбьим
хвостом
выплеснулся закат.
Апрельскими вечерами
он долго стоял на круче,
как бы любуясь
зорями
в мокрых багровых сучьях!
Он слышал охрипший голос:
— Сломаете весла,
черти!
Внизу хохотала юность,
спасенная им от смерти…
Когда человек улыбался,
спускаясь к воде тропой,
не верилось,
не хотелось
верить,
что он слепой.
Все выступы, все тропинки
изучены и послушны…
Он
только однажды
вздрогнул,
споткнувшись о чье-то: «Скушно»…
Послевоенная осень.
Тишина.
В этой комнате скучно очень.
Я весь день торчу у окна.
Во дворе
покрышка мелькает,
набитая рыжей листвой,
но соседки не разрешают
мальчишкам играть со мной.
Торчу у окна на койке,
будто
я виноват,
что у меня какой-то
запущенный инфильтрат.
Бей же!
Трещит беседка.
Мне бы вступить в игру!
Вчера шептались соседки,
что я весною умру,
что ни масло,
ни море
мне здоровья не возвратят,
и поэтому
очень скоро
у меня появится брат…
Я не верю,
что я умру,
потому что
соседки
врут!
Они врали, когда убили
нашу собаку Ласку
и когда во дворе срубили
мою зеленую сказку.
Поскорей бы родился брат!
Даже Колька его не тронет.
Я ему подарю самокат,
а как только
на речке трахнет,
мы сорвемся
с весенних круч,
я надую две камеры ртом,
мы на них намотаем луч,
загорланим
и поплывем!
Гроза
надула
паруса
и развернулась,
и потом
воздушным черным кораблем
с бортов
ударила огнем!
И поплыла,
и покачнулась,
и, первой каплей прозвенев,
земли притихнувшей коснулась,
пробив
навылет
сердце мне.
Но не убила…
Нет, убила!
Все, что когда-то притупилось,
вздыхало,
вслух не говорило,
смирилось,
сжилось,
притаилось…
Заговорило сердце
смело!
Сухой непримиримой болью
в нем ожили осколки смеха
и черные обломки молний.
Я слышу,
как навстречу грому
распахивают люди окна!
Передо мной
в соседнем доме
упали шторы,
ставень хлопнул.
Гроза проносится по крыше,
коробится железным штормом,
но я грозы уже не слышу,
я слышу ставни,
вижу шторы.
Я слышу,
вижу,
ненавижу
их, притаившихся, притихших,
слагающих о грозах оды!
Какие окна?
Что за окна?
Ведь это же сердца…
— Спаси-и-те! —
смеюсь.
Напротив гаснет свет.
— Все дома?
— Все.
— Назад.
Сидите,—
шепнула тишина в ответ.
Гроза —
Явление природы.
Гроза,
бессильная гроза.
Она уйдет в громоотводы,
она надует паруса
и вымпел-молнию опустит,
всю ярость
передав
громам,
чтобы уплыть
в звериной грусти
к своим далеким берегам.
А мне
в своем остаться мире —
суровом,
радостном,
жестоком,
грозой разбитом на квартиры
закрытых
и открытых окон.
Идет оркестр…
Кого-то хоронили.
Родился кто-то.
Кто-то разлюбил.
Кого-то с пеною у рта хвалили.
Кого-то
где-то
кто-то оскорбил.
Над всем над этим
пролетает вечность.
И я живу,
и я умру, конечно.
Как странно —
есть,
и вдруг меня не будет,
а кто-то будет,
будут песни, смех,
и лимонад
в тени зеленых будок
веселый малый будет брать на всех.
Иду к реке.
Опять лучами солнце
толкает в спину —
весело шагать.
Смотрю,
как пена кружевами вьется,
смотрю и говорю:
— Спасибо, мать!
За что?
За то, что у меня меж пальцев
вода струится…
Странная вода!
Она свиваться может,
разливаться,
натягивать упруго невода.
Иду!
Трещит надутая рубашка.
Пью лимонада подслащенный лед.
А по стеклу
куда-то вверх
букашка
ползет,
срывается,
опять ползет.
Старушка в землю просится клюкой.
Бежит девчонка
с теннисной ракеткой.
И голосом охрипшим:
— Светка!…
Орет мальчишка за рекой.
«Над рощами вовсю зарницы плещутся»…
Над рощами вовсю зарницы плещутся,
и лупят
капли
крепкие
по кепке,
и мокрая листва, свистя, полощется,
и под подошвами
ворочаются камни!
А руки
почему-то стали граблями,
а ты
хохочешь
прямо из грозы!
А по земле
с размаху
лупят градины
и вскакивают
шишками
грибы!
Мы оседаем вдруг,
отяжелевшие,
как путники перед крыльцом ночным,
и все стучим сердцами ошалевшими,
друг в друга,
ослабевшие,
стучим…
Стучим!
Глаза, как фонари чадящие.
Стучим!
В дыму багровые обрывы.
Июльские, прозрачные, над чащею
стоят дожди
и остро пахнут травы…